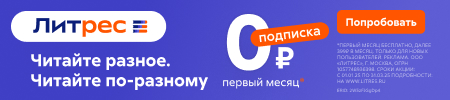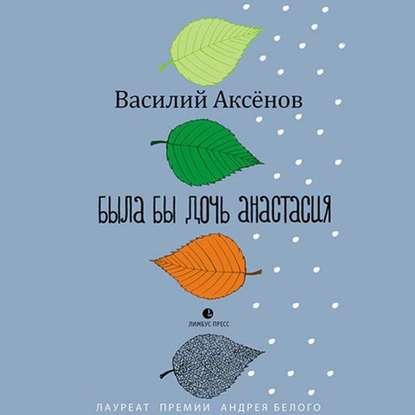Текст
Текст Пламя, или Посещение одиннадцатое
Полная версия
- О книге
- Читать
Это – литовец. Херкус. Серёга думал, позывной. Узнал после от Надежды Викторовны, что имя собственное, – восхитился. Половинит теперь его, это имя, упуская второй слог. Заочно. Очно никак к нему не обращается – робеет. С Каунаса прибыл этот самый Херкус. Метр девяносто ростом, не меньше. Сухопарый, как аскет, так уж и вовсе каланчой пожарной смотрится. Держится прямо, не сутулится, в профиль – как рейка. Им ровность стенки проверять, хотя бы той, со стратиграфией. Имея в виду его рост, Серёга называет его: сгибень. Голову Херкус носит величаво: выбритым затылком – к земле, подбородком волевым – к небу. Даже когда ест. С длинной светло-русой чёлкой. «Эсэсовской» – так девушки определили. Рукава серой рубашки закатаны. На бравых немцев до их отступления с нашей земли в хронике смотришь – похоже. И вправду. Ни с кем, кроме Александра Евгеньевича и Надежды Викторовны, не общается. Зачем ему, гордому потомку Миндаугасов и Гядиминасов, Старая Ладога? Зачем ему это средневековое славяно-финское, ну пусть отчасти и варяжское, допустим, городище? Ума не приложу. Польско-литовские владения до этих мест не простирались. Разве в фантазиях беспочвенных, пустых. Не шумный. Днём внимания к себе особого не привлекает. Но и не нормальный. Как только свет на улице забрезжит, он принимается громко, высунув свой арийский нос из спальника, то кудахтать, то кукарекать. До хрипоты. Не рычать, не лаять, и на том спасибо. Завой-ка волком рядом он, «опысашься» от страха. Серёга так опасливо предположил. Кому в самый для всех сон понравится такой будильник? Просили его не блажить – бесполезно, делает вид, что не въезжает, какие требования могут быть к нему предъявлены, сразу по-русски начинает изъясняться кое-как, слова коверкая нарочно: моя твоя, мол, нихт ферштейн. Шут с ним. Уедет скоро. Дома, у мамы с папой, будет кукарекать или каркать. Пусть хоть белугой там кричит. Тоже студент. Вильнюсского университета. Так объявил себя Надежде Викторовне. Ждёт, по словам Надежды Викторовны, когда в Каунасе восстановят Университет Великого Витовта, чтобы туда перевестись – хоть студентом, хоть профессором, хоть поломоем. Флаг в руки, как говорится. Ветра попутного ли в… спину. Помимо предрассветной курино-петушиной песни, ничего – совком по голове никого не лупит, драться ни с того и ни с сего ни на кого не кидается, кусок хлеба из рук или изо рта ни у кого не вырывает, не кусается пока – плохого он не делает. Как, впрочем, и хорошего. У меня к нему, по крайней мере, нет претензий, кроме одной – не в меру, голубая кровь, ленивый. На квадрат садится помечтать, вместо того чтобы работать, – торчит там, расположившись на дощатом ящике, как попка, еле шевелится, то нож разглядывает, то чистит им под ногтями, то теребит кисточку, то провожает взглядом облако – не интересно ему, что ли? Зачем приехал? Я бы, позволь мне, и весь вал давно разнёс до основания, ради какой-нибудь находки, конечно, «важной для науки». Взять в руки носилки – его, этого Херкуса, не заставишь, не княжеское дело, ссылается на поясницу – надорвал-де. Надорвал. Сразу три кисточки, наверное, поднял, совок с ножом одновременно ли. Ладно, детей с ним не крестить. И в разведку, археологическую, идти с ним не придётся. Тем более военную. Пусть пребывает. Спрошу после, если не забуду, у Александра Евгеньевича или у Надежды Викторовны, о чём он, белая кость, ведёт с ними разговоры. Надеюсь, не секретные. Вряд ли, конечно, стану спрашивать. К чему мне? Я не психиатр и не его личный психолог.
На сегодня это всё.
Кто-то, дежурные по кухне, остался в лагере – базируемся мы в Никольском монастыре, спим в бывшей трапезной церкви Иоанна Златоуста, столуемся за оградой, напротив Южных врат, на свежем воздухе. Там рукомойник, прибитый к стенке какой-то полузавалившейся кандейки, и очаг. Даже навес смастерили на случай дождя, покрыли толем. Стол и скамейки под навесом, так что и ливень нипочём. До Волхова минуты две ходьбы. Неспешным шагом. Гуляем в хорошую погоду перед сном до берега, любуемся вечерней рекой, скользящими по ней лодками, словно гладящими её поверхность баржами, представляя древние варяжские драккары и кнорры, прибывшие торговать или осаждать нашу крепость, – девушкам головы морочим. Что ни наври им, навороти с три короба, всему верят. Sancta simplicitas. Так, кажется.
Врал бы и врал. А что? «Ну дак а чё? – сказали бы в Ялани. – Язык на то он и язык, дрова им не колоть, зерно не молотить».
Остальные уехали на экскурсию в Тихвин. Рано утром, до завтрака. На шлюзы, построенные ещё до нашествия Наполеона, в самом начале девятнадцатого века, глянуть – «хотелось бы». В Тихвинский мужской монастырь наведаться – «обязательно». Побывать на могиле композитора Александра Глазунова – «как получится». Посетить Дом-музей Римского-Корсакова – «желательно». Вернутся к вечеру. Если всё пойдёт нормально, шлюзы не прорвёт или автобус, например, по дороге не сломается. Мало ли. Кто-нибудь – не монахи, не послушники туда поехали, – отделившись незаметно от других экскурсантов и завернув в злачное заведение, напьётся раньше времени – искать станут, пока отыщут, своих же и археологи в беде не оставляют. Произошло такое в прошлую поездку. Не со мной, спешу заверить. Скажу так: с двумя товарищами, N и G. Я и в тот раз не ездил никуда. Нужник, вырыв прежде яму много-ёмкую, не на малодетную семью рассчитанную, старательно воздвигал. Успешно. Складно получилось. Чтобы простым – не хочется говорить в данном случае членам, сотрудникам – экспедиции и важным персонам, гостям нашим почтенным, по кустам бегать не приходилось. Яму вырыть – мне раз плюнуть. Как не самый крупный курган раскидать. Кое-что и приобрёл ещё при этом – медное женское колечко и нательный серебряный прямолинейный крестик, маленький – женский или скорее всё же детский. Не говорю про гвозди кованые и битую посуду. Отдал начальнику эти находки. До общей кучи. Мог бы и присвоить – крестик и колечко, есть кому подарить, – совесть не позволила. Доски мне реставраторы, в монастыре работающие, одолжили. Стоит сооружение – как памятник архитектуры, зодчему ли, никаким ветром его не завалишь.
Раскоп наш, по нашим, северо-западным, меркам, глубокий. И глубже где-то, может быть, отыщутся. Западная стенка высотой около семи метров. Бывший земляной оборонительный вал шестнадцатого века до середины поперёк прокопали. Из рулета долю будто вырезали. На некоторых квадратах дошли почти до материка, зачистили. На не зачищенных пока – чёрно-бурый гумус, который будем добирать, просеивать. До материка вылижем. Работы на неделю. Если дожди не помешают. Толщиной сантиметров десять-двенадцать. Разряженный голубоватой материковой глиной – вивианитом. Те, кто первыми сюда пришёл и захотел или был вынужден обосноваться, рыли ямы под столбы, перемешали. Археолог Валерий Петрович Петренко, автор и исполнитель многих экспедиционных песен, даже и мы которые поём, – копал тут, вблизи Варяжской улицы, посад, сейчас копает где, не знаю, в Ивангороде, возможно, – называет этот слой «погребенной почвой», Александр Евгеньевич – «предматериком». Находок в нём, в этом слое, по-умному – артефактов, мало, зато полно щепы строительной. И щепа – учёные мы, а не какие-то кладоискатели – в нашу копилку: виден строительный размах первонасельников, активность их трудов. Хорошо сбереглась. В жидком от мочи тогдашнего домашнего скота навозе, будто вчерашнего происхождения – так сохранился тот под толщей земляной, без доступа-то кислорода, ну как живой – чуть не сказалось. Запах – в жилом хлеву такой стоит, быстро выветривается, правда, как только вскроешь, просыхает.
Высвободишь из слоя щепу – общее описание, особо-то фиксировать не надо – ярко-жёлтая, как будто нынче вот, на днях, топором от бревна отсекли. На ладонь её устроишь – гаснет, скручивается в свиток и, серея, рассыпается в прах прямо на глазах, хоть сдувай его с ладони.
Впечатляет. Как чудо смотрится, как фокус. Кто только фокусник, чудесник?
Так, как рассказывают те, кто побывал в предсмертном состоянии, случай какой-нибудь несчастный, вся твоя жизнь перед глазами пробегает – в одно мгновение. Знакомо. И меня не миновало. Пробегала. Или сними её, человеческую жизнь, на киноплёнку, а после прокрути её в ускоренном режиме – будет, наверное, похоже. Отдалённо.
Вот вам щепа, и вот вам персть. Века жила, в древних навозе и в моче, на свет белый угодила и в мгновение истлела. Всему своя среда, выходит. И человеку. Кому-то нужен белый свет для жизни, а кому-то…
Нашёл я деревянную фишку в слое эпохи Вещего Олега. Размером она с современную пластмассовую шашку игровую. Только снизу не полая, как та, а цельная. С красиво и искусно вырезанным на ней знаком Рюрика. «Пикирующий сокол». Походит на «трызуб» украинских националистов. И на хазарскую тамгу. Фишку, пока в прах не обратилась, успели запаять в полиэтиленовый пакет. Пожалуй, сохранится. Я, как нашёл её, больше её и не видел. Рисунок с этой фишки предшествует двузубцам и трезубцам Рюриковичей. Стилизованная птица, летящая с гнезда-плетёнки. Но при желании в этой птице можно увидеть и маску предка в варяжском шлеме. Если перевернуть рисунок, гнездо-плетёнка превратится в изображение солнца, а птица-маска – в тянущийся к нему цветок. Но и это не всё: вглядись внимательней – и вместо цветка проявится для тебя морда византийского грифона. Не так всё просто и не односложно.
Восточная стенка раскопа самая низкая – метра полтора. На неё выходит пандус, по которому мы таскаем на носилках из раскопа в отвал просеянную землю. Я иной раз, приглядываясь зорко, пройдусь нарочно по отвалу туда-обратно – из недоверия к поклонникам археологии, всяким чертёжницам или балтийским арийцам. Нужен за ними глаз да глаз. Однажды фибулу нашёл в нём, в отвале, – прошляпил кто-то из любителей. Бывает. Может, и Херкус, тот из вредности. Его и вовсе выпускать из глаз нельзя.
Тоже сидели на квадратах, согнувшись, утомились, теперь расположились девушки рядком передохнуть на краю этой стенки, болтают беспечно ногами, дружно посмеиваются, как обычно, над «Сярожой». Скажи, просят его, «крокодил корову проглотил». Тот, «Сярожа», внизу. Остатки обнаруженного сруба расчищает. Я – на соседнем квадрате. Бронзовые и сердоликовые бусы у меня россыпью. Кисточкой их аккуратно, чтобы не сдвинуть с места, обметаю. Александр Евгеньевич после сфотографирует, а одна из девушек занесёт их на план.
Было тут когда-то, на этом тесном пространстве, три мастерских. Самая поздняя – кожевенная. Более ранняя – кузнечно-ювелирная. А между ними – стеклодельная, в которой по арабской низкотемпературной технологии с 780-х годов варились бусы. «Глазки». То есть глазчатые бусы, по сути – первые русские деньги. На них древние ладожане скупали пушнину, которую, в свою очередь, продавали арабским купцам за полноценные серебряные дирхемы. Как и раковины каури (ужовки) – те тоже вместо денег были у наших пращуров.
В 1114 году Нестор запишет: «…поведали мне ладожане, как тут случается. Когда бывает туча велика, находят дети наши глазки стеклянные – и малые, и великие, проверченные. А другие подле Волхова берут, которые выплескивает вода. От них же взял более ста, и все разные…» Летописец в своем двенадцатом столетии уже не знает, что такое эти «глазки», собираемые на ладожском берегу детьми, а современные лингвисты ещё не знают, что эти «глазки» (от скандинавского glass – «стекло») вытеснили из русского разговорного языка «око» (по-славянски «глаз» – «камешек»). Я это так – предполагаю. Кто-то из них, лингвистов и филологов, возможно, и догадывается.
Рассказываю Серёге о хазарах «неразумных», о дирхемах, как они сюда попали, о раковинах каури, о найденных в Старой Ладоге кладах куфических арабских серебряных монет, кто здесь и с какого времени занимался раскопками и о том, о чём, про что ли спросит, – любознательный, внимает, «толоконник», или «лягушечник». Присочинить для красочности – язык и чешется, но вот не поворачивается. Грех обманывать такого. Простодушный он, Серёга, – поэтому. К тому же тянется к истории, как стебелёк к солнцу. Ну а история и без моих добавок красочна. Так что правду, только правду. Это для девушек – для тех и присочинить можно, всё равно из них через день или неделю мои «сведения» выветрятся. А то и через час. Не в осуждение. Как факт. Другое, как уверяет Серёга, у них на уме, а что именно, не уточняет. Не до истории-то, точно. Вид только делают, что слушают внимательно, сами витают, дескать, в облаках. По тому, как они при этом ресницами, словно крыльями, хлопают, понять, мол, можно. И пусть витают, жалко, что ли, пусть хлопают. Да нет, по мне-то, хоть в заоблачной дали пускай болтаются, мне, мол, за ними не гоняться. Такой Серёга, вологжанин. Не романтик.
Измывались девушки над парнем, подшучивали над ним, легкомысленные. Безрезультатно. Вроде никак он, Серёга, на это не реагирует. Внешне – посмотришь на него, так и решишь. Только меня как будто слушает и ни о чём другом больше не думает. Но вижу: выкопал он большого, красного – после дождей в раскоп нападавших обильно, – длинного, жирного червя – червей он называет по-вологодски шшурами, – поднялся с корточек, встал в полный рост, повернулся в сторону обидчиц. Голову, как Херкус, гордо запрокинул, глаза к небу возвёл, рот широко раскрыл и медленно, встряхнув прежде и протянув между пальцами, чтобы убрать с неё «гумус», заглотил упитанную кольчатую тварь; погладил благостно живот – редкое-де лакомство, нечасто насладишься. Опять склонился над квадратом. Древнюю часть сруба от налипшего на него древнего навоза «шабаркать» ножом продолжил – чтобы девушкам-чертёжницам после на плане её, эту часть сруба, зафиксировать. Очистит полностью и место им уступит.
Разом девушки, будто бы долго репетировали, согнулись в талии, вниз головой, и… и… вот как сказать о барышнях?..
Ну, словом, вырвало их.
В раскоп. Ох, надо же. Вот тоже. Кто убирать за ними будет?
Ну, думаю, ладно, и поделом вам, хохотушки. Насмехаться прекратите. На какое-то хоть время. Отдыхай пока, Серёга.
А тот в их сторону и не глядит, ни в чём как будто не бывало.
Спустились девушки – с облаков будто! – в раскоп. Пока молчат.
Ну и Серёга.
Вчера – Медовый Спас, 19 августа – Яблочный, 29-го – Ореховый. Старая Ладога, дело известное, ликовать будет до сентября, а то и до октября, а там и «ноябрьские», вином яблочным запаслись сельчане в полной мере – приходили тут ребята местные, хмельные, похвалялись. И мы с ними кое о чём успели сговориться. Посмотрим.
Весь август – сплошные праздники.
Сегодня 15-е – День археолога. Пусть он в календаре и не отмечен как красная дата. Но во всех археологических экспедициях страны нынешний вечер покажет себя томным. Не только вечер, но и ночь. Уж это точно. Утро тяжёлым, правда, будет. Но кто сейчас об этом станет думать?
Будем и мы, конечно, отмечать. Не рыжие. С размахом. С чувством. Не впервой. Как происходит это, знаю.
Вчера же утром с визитом вежливости и по своим делам научным появилась у нас на раскопе замечательная Ольга Ивановна Давидан. С Эрмитажа. Археолог. Выпускница ЛГУ. Когда-то тоже здесь копала. Сначала под руководством В. И. Равдоникаса и Г. П. Гроздилова, её учителей и наставников, о которых вспоминает с теплотой, много интересного о них рассказывая. Ветеран Великой Отечественной, оказывается, блокадница. Я и не знал. Работала в госпитале медсестрой. Едва живую эвакуировали её из Ленинграда в Саратов, если я правильно расслышал. Вроде в Саратов.
Тоже, кстати, как и Серёга, родом из Вологодской области. Про Вологодчину, общую родину свою, они – ещё и «заспихи», оказывается, – живо побеседовали. У Ольги Ивановны и «выговор» странный сразу проявился, «вологодский». Как у Серёги. «Шшур-яшшур». Посмеялись. Девушки уж тут не лезли со своими шутками.
Интересная, добрая, знающая и много в жизни испытавшая женщина. Одетая со вкусом, насколько я могу судить, «дремучий». Скромная. И разговаривать легко и просто с ней, что очень ценно. По крайней мере – для меня. Высокомерия ни тени.
После Ольги Ивановны, к обеду, нагрянули бывшие однокурсники Александра Евгеньевича: Журавлёв Глеб Сергеевич, Буханкин Василий Александрович и Клёнов Игорь Васильевич. Все они с кафедры археологии, преподаватели-доценты. А Глеб Сергеевич, метко прозванный кем-то Скальдом и Велесовым Внуком, ещё и мой научный руководитель. У него на кафедре пишу я свой диплом «О развитии погребального обряда на северо-западе Новгородской земли в XI–XV веках / по материалам работы Ижорской экспедиции ЛОИА». Почти готов уже, текст, написать осталось заключение, а чертежи, планы и фотографии за зиму сделаю.
Сейчас все они вместе с Александром Евгеньевичем, которого, забыл сказать, тоже окрестил кто-то любя и заслуженно Ладожским Конунгом, в церкви Святого Георгия, в гостях у реставратора. С Москвы. Адольф Николаевич. Овчинников. Из церкви почти не выходит. Строительные леса – на них, можно сказать, и живёт. Девчонки наши носят ему перекусить от нашего стола. Постное. Фрески копирует. Давно уже, много лет. «Соломон». «Давид». «Михей». «Иеремия». Никто его не принуждал, сам, по собственной воле. Подвижник. Говорит: «Сакральное искусство – это самовыражение, но без подлой авторской амбиции». Здорово. «Искусство, – говорит, – это то, что связывает в единое любые факты, превращая материальное в духовное». Я даже записал. В «писательский» блокнот. Память хорошая, но вдруг забуду. Куплеты песен забываю же. И имена – когда знакомлюсь. Готов, говорит Адольф Николаевич, исполнять свою работу до конца дней своих. Ещё за ним вот записал: «На любой лик посмотрите, других таких нет, даже в самой Византии. Откуда они брали таких мастеров, трудно понять. Всё гениально. И сам храм, в котором окна, как будто хаотично разбросанные по стенам, на самом деле ловят каждый луч солнца с первого до последнего. Гениальны росписи. Нет, я не просто их копирую. Для этого достаточно воспользоваться и фотоаппаратом. Я пытаюсь разобраться в том, как они создавали всё это, что при этом хотели сказать и чего добиться. Как у них получается такое лёгкое небо. Или земля, которая по цвету светлее, но по ощущению тяжелее неба. Для меня копии-реконструкции – машина времени, которая переносит меня в XII, или в XIV, или в XV век».
«Лёгкое небо».
Обязал себя – запомню. Буду болтать с подружками за чашкой чая зимним вечером, произнесу небрежно в разговоре. Стой на Илью, сказали бы в Ялани, если бы там его, конечно, знали, как знаю я. Стой на кого-то – по-ялански – быть в чём-то похожим на этого самого кого-то, делать или поступать в определённых ситуациях так, как делает или поступает тот. Илья, к примеру. Когда охмуряет вдохновенно очередную невинную жертву, мудрёных слов насыплет кучу. Действует.
«Лёгкое небо». Прозвучит.
Святой Георгий усмиряет змея Божьим словом. По ладожскому преданию, именно перед этой фреской идущий на шведов девятнадцатилетний князь Александр Ярославич произнес: «Не в силе Бог, а в правде».
Захожу в эту церковь, смотрю теперь на всё вроде как глазами Адольфа Николаевича. Человек. С большой буквы. И мне бы так вот: до конца-то своих дней… Как Павка Корчагин. В своём роде.
Ну, как уж сложится, посмотрим. Как мама скажет: «Чё загадывать? Дожить надо». Уверен что-то – доживём. Дурных предзнаменований не наблюдалось.
Вчерашний день был полон разных случаев – столько на ограниченной территории собралось «славяно-финнов», sapienti sat, все как ходячие энциклопедии, – обо всех этих случаях, происшествиях ли, нет смысла рассказывать, а вот об одном, наверное, стоит, так как я оказался главным в нём героем и к теме ближе.
Сразу же, с автобуса, Ольга Ивановна пришла к нам на раскоп. Все ей дорожки тут знакомы. Старая Ладога – «родное» её место, «археологическая родина». Первый вопрос её: «Ну, что тут у нас делается, что творится?»
Что у нас делается, что творится, доложил ей охотно Александр Евгеньевич, это же и его «родное» место.
Мне бы докладывать так, мне бы так слушать. Самозабвенно. Как о сокровище, с которым сердце.
Все в раскопе. Копошимся. Даже Херкус шевелит руками – угольно-зольное пятно ковыряет ножом, и то работа. Ухо навострено. Куда? Да куда надо. И глаз туда косит – в сторону самой низкой стенки. Не шпион ли?
Конунг, Надежда Викторовна и Ольга Ивановна на ней, восточной стенке, близко к краю, сидят на чурочках. Перед ними – дощатый ящик из-под какого-то вина, из магазина принесли, вместо столика. На ящике – термос. Пьют из экспедиционных эмалированных кружек чай. Ольга Ивановна и говорит во всеуслышание:
– Чай на воздухе, из кружек – замечательно. Как уж давно я не пила… Вот отыскалась бы сейчас деревянная посуда, фрагмент чашки или тарелочки, обточенной на токарном станке…
Ну, сказала и сказала.
Минута, две проходит, чуть ли больше, и натыкаюсь я ножом на большой обломок, почти в половину, деревянной тарелки, обточенной токарным способом.
После фиксации передал я этот фрагмент древней тарелки Ольге Ивановне. Пошёл на место. Пока не запеленали находку в полиэтиленовый пакет, полюбовалась Ольга Ивановна на неё восторженно, как на ребёнка новорождённого, долгожданного, возбуждённо обсуждая с Надеждой Викторовной и Александром Евгеньевичем такую удачу.
Чуть позже, уже глядя на меня, говорит, будто заявку подаёт, она же, Ольга Ивановна:
– Вот нашлась бы весовая гирька…
Нахожу я весовую гирьку.
После:
– Вот бы нашёлся ткани лоскуточек…
Обнаруживаю я в навозе серый лоскут ткани размером с ладонь.
– Ну, – говорит Ольга Ивановна, – добывай уж тогда, Вещий Олег, для меня и костяной гребешок, обломочек хотя бы. Желательно – с орнаментом.
Я нахожу и гребешок. С орнаментом растительным.
Бывает со мной такое. С детства. Как кто несёт. Лёгкая, нелёгкая ли, не знаю. Надеюсь – лёгкая. Ну, или тот, кто справа, на место наводит. Душу я не закладывал, уж это точно. Никто потусторонний договор со мной не заключал. Ни с каким бесом, ни мелким, ни крупным, ничего я не подписывал.
На первом курсе. Во время летней сессии в хорошую солнечную погоду ходили мы, прихватив учебники, на Петровский пруд, детский пляж, купались, загорали, ну и пытались при этом что-то выучить, запомнить из прочитанного. В один из дней прихожу я, задержавшись немного. Ребята уже там. Лежат на песке. Рядом другие, нам не знакомые парни и девушки, стоя на карачках, в песке усердно роются, всё пропахали. Я спрашиваю: «Что они там потеряли?» Кто-то из друзей моих мне отвечает: «В волейбол играли, и один из парней золотое обручальное кольцо обронил, с пальца соскользнуло». Я в шутку говорю: «Пусть не стараются, не ищут. Завтра приду и найду». Ну и забыли мы про это. Я-то уж точно: ляпнул не думая и ляпнул. На следующий день прихожу. Мои ребята уже там. Лежат, искупавшись. Бросив на песок сумку с книгами, раздеваюсь, падаю ничком и запускаю в песок растопыренные пятерни. Тут же вытаскиваю их, переворачиваюсь на спину, поднимаю руки вверх – на указательном пальце правой руки надето кольцо золотое. Великовато мне – болтается на пальце. Написали мы объявление, в котором указали, где нас можно найти, чтобы получить свою пропажу, приклеили его к стволу растущего рядом с пляжем тополя. Но владелец так и не отозвался. Пришлось колечко это, сдав его задёшево как «лом», нам прогулять. И прогуляли. В «Пушкаре». Не поделили что-то с «космическими» курсантами, стенка на стенку потолкались, но разошлись с ними, слава богу, мирно.
Ну и ещё уж один случай, для более полной картины.
Подружка моя Яна, «заносчивая палеолитчица» и «рафинированная городчанка-петербурженка», подрабатывала дворником. Убирала снег вокруг «ватрушки», на пересечении Левашовского и Чкаловского. Я подрядился помогать ей. Только за сладкий чай, в её компании радушной. Как-то раным-рано, чтобы успеть на па́ру по истории Древнего Рима, направляемся мы с ней, полусонные, вялым и путаным шагом на работу, минуем уже открытую кофейную на Гатчинской, между Щорса и Чкаловским. Вкусно пахнет – с ног валит. Мы окончательно, голодные, даже проснулись. И говорит Яна мечтательно: «Был бы у нас рубль, зашли бы мы сюда, выпили бы по чашке кофе и съели бы по булочке». Я наклоняюсь и подбираю с тротуара чуть запорошённый снежком бумажный рубль. Зашли, съели по тёплой ещё сдобной булочке, выпили по чашке кофе. После работы возвращаемся тем же путём, Яна и говорит: «Вот был бы у нас ещё рубль, зашли бы мы в магазин, купили бы баранины, приготовили бы рагу». Картошка есть, мол, а готовить я умею. Наклоняюсь и подбираю с протаявшего уже тротуара металлический рубль. «С Лениным». Зашли в магазин, купили баранины. В коммуналке на Большом проспекте Петроградской стороны, где снимает Яна, сбежав от «слишком заботливых» родителей и их «материальной поддержки», комнату, приготовили рагу, пообедали. Так вкусно и сытно «намисякались», как сказал бы Серёга, что на занятие не поехали. Отдыхали в этот день от нас и античность с её «латынью», и «величественный» палеолит, и «так себе» железный век.
Ну, всё подобное тут и не вспомнишь. Да и надобности нет.