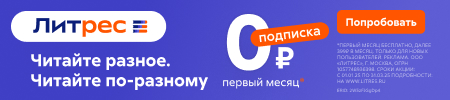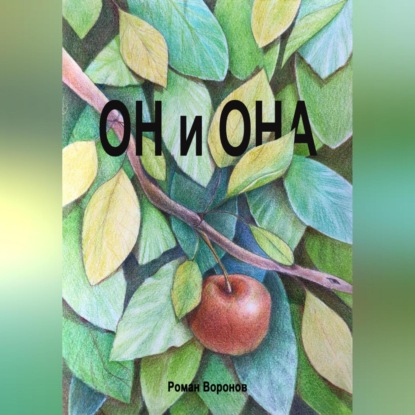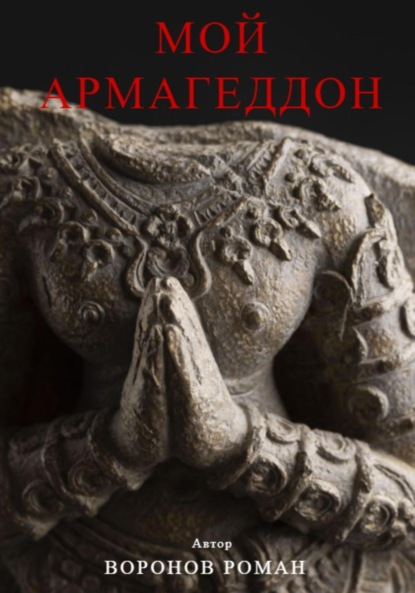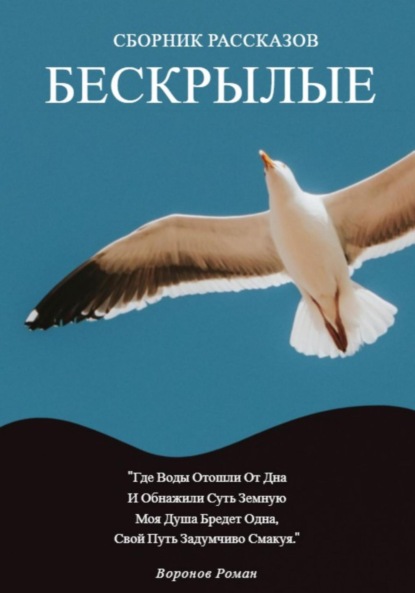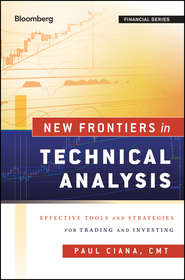Текст
Текст Полная версия
- О книге
- Читать
Мне тут же на ум пришло не забыть взять мзду с семьи воришки, коего осудил вчера, но обещал отпустить сегодня, благо есть такая причуда – в канун иудейского праздника миловать одного преступника.
– Неужто весь резон человеческого бытия – пчелиный труд: принес на лапках пыльцу, уложил в соту и сдох, – заметил я скептически, чем в иудейском обществе вызвал злорадный смех.
Царь Иудеев окинул взором гогочущих «подданных» и невозмутимо продолжил:
– Даже бытие Солнца имеет смысл (карму) только в том случае, когда есть что освещать и согревать, то есть давать жизнь. «Пустыня мертва и солнце в ней зло», – сказал бы философ. Именно по этой причине звезды обзаводятся сопровождающими их небесными телами, дабы не светить попусту в ледяное ничто.
– И как же сию метафору, весьма загадочную, возможно перенести на человека, существо порочное, лживое и завистливое, – я недвусмысленно показал взглядом Иисусу на толпу, вновь проснувшуюся для своей мантры «Распни его». Мой визави сохранял поистине титаническое спокойствие:
– Не возлюбивший ближнего не познает себя как Свет, как Сын.
– Скажи это им, – я посмотрел на волнующееся еще сильнее «стадо» иудеев, уже не просящих, а требующих казни несчастного. Нарастающий гомон за спиной совершенно не волновал Иисуса:
– Я говорю тебе, частица Бога, Его корпускула, ушедшая в пустоту, расходуется напрасно, как стрела, не достигшая цели. Ее (речь о душе) необходимо «сталкивать» с другими, дабы возник результат, стрелу перехватит щит или она пронзит сердце.
Думайте что хотите, но в этот момент я сам схватился за левый бок, будто слова его, оперенные страстью и заточенные истиной, попали в яблочко. Горло перехватило, косточка финика, перепутав пищевод с трахеей, встала поперек гортани, как галера, развернутая опытным воителем в узком потоке с целью помешать проходу вражеских судов, в глазах потемнело, и я услышал тихий, спокойный и очень внятный голос Царя Иудеев:
– Теперь они только открывают рты, но не издадут ни звука, пялят глаза на нас, но не видят ничего, ловят распахнутыми ушами малейшие вибрации воздуха, но мир вокруг безмолвен. Ты и я, более здесь и сейчас нет никого, и я говорю исключительно для тебя. Твоя жизнь, Пилат, иллюзия, и реалистична она для тебя только потому, что есть Ковчег, пребывая на коем ты можешь ощущать качку, дуновение ветра, скрип такелажа и усталость в руках от работы на веслах.
Я умирал, не способный позвать на помощь, моргнуть оком или пошевелить рукой, но в голове моей прозвучал вопрос к голосу Иисуса:
– Я не понимаю или не могу понять?
Он же продолжал, не меняя темпа и громкости:
– Душа рождается на землю (получает оболочку, амфору), чтобы умереть, то есть получает жизнь конечную. Когда там, дома, она бессмертна, вечна, то без сожаления откладывает на потом все дела, все задачи, всю учебу, все Пути. Только дыхание Смерти за спиной, ощущение приближающегося обрыва заставляет бессмертного, ставшего на миг условно смертным, что-то предпринимать, дабы успеть оставить след, а именно заняться познанием самого себя. Вот каков замысел Отца: находясь в Абсолютном состоянии, создать ограниченные условия, чтобы через стеснение и неудобство побудить себя к изменению.
Теряя сознание, я ощутил увесистый шлепок по спине, рука у Лонгина, что и говорить, тяжелее булавы, финиковая косточка со свистом вылетела изо рта и упала к сандалиям Иисуса. Я смог сделать спасительный вдох. Глоток красного вина окончательно привел меня в чувство, и я, «уложив» на чаши весов с одной стороны интересного собеседника, а с другой – беснующуюся толпу нервных иудеев, принял сторону большинства и отправил Царя Иудейского на казнь.
Не простое это дело, судить людей, особенно если перед вами предстал Спаситель рода человеческого, Сын Божий, льющий в уши вместо оправданий слова Истины, так хорошо знакомые дома (я сейчас не о Вечном Городе), но столь чуждые сознанию здесь, в пыльном и крикливом Иерусалиме, городе иудеев, чуть что, кричащих без умолку: «Распни его».
Куб в кубе
Иной раз время, привычная для нас константа, незыблемое в четком ритме своих гулких шагов, пойманное на кончик стрелки, бегущей от цифры к цифре, словно цирковая лошадь по арене, бездушно и заунывно, в новый круг, раз за разом мимо застывшего шпрехшталмейстера, вдруг выбрасывает фортель, взбрыкивает, недовольное то ли свистом хлыста, то ли жидкими хлопками из зала, и окунает изумленного наблюдателя сначала в стремительный поток внешних событий, а затем, выставив вперед холодную ладонь забвения, останавливает мир, с зависшим в полушаге движением, прямо на полуслове и с солнечным диском, не желающим переваливаться через экватор. Желаете пример из жизни? Пожалуйте, вот он.
Я сидел (если угодно, однажды) на лавочке в небольшом сквере, название которого… впрочем, дальнейшее повествование не привязано к месту и могло произойти где угодно, скорее история о выкрутасах времени, а посему, как именовался сквер из десятка лип, не имеет значения, главное в нем – я и устроившийся напротив старик, привлекший мое внимание неординарной, я бы даже сказал, вызывающей внешностью.
Сложно представить, в какую эпоху модным было то невообразимое, во что укутался обладатель крючковатого тонкого носа, густых взъерошенных бровей, скорее обвалившихся, чем нависших, на юркие черные бусины глаз, в своем «укрытии», да еще и с моего места, почти незаметные. Желтоватого оттенка сморщенная кожа, казалось, вообще готова сползти со скул, но из последних сил удерживалась редким поседевшим скальпом, покрасневшим от натуги на голой макушке, да мясистыми, оттопыренными до нельзя в стороны огромными ушами, на которых намертво закрепился головной убор, название коего история утеряла безвозвратно ввиду древности представленного артефакта.
Этого «путешественника во времени», забредшего в мой сквер явно по ошибке, я застал за написанием некоего документа. Незнакомец макал настоящее гусиное перо в маленькую чернильницу, выполненную в бронзе великолепную антикварную вещицу, испещренную замысловатым орнаментом, сюжета коего я разглядеть не мог, хотя не сложно было догадаться о ее значительном возрасте и соответствующей ему стоимости. Пыльно-желтые листки бумаги, по которым с жутким скрипом, пугающим местных ворон, старик водил пером, приобретены им были явно не в ближайшей лавке канцелярских товаров.
Погруженный в свою работу удивительный персонаж довольно быстро ставил закорючки, ловко выуживая из чернильницы пером ее содержимое, останавливался на несколько мгновений, закатывал глаза под сень бровей и снова скрипел, поднимая в воздух только присевших на брусчатку мостовой птиц. Эта необъявленная «война» забавляла меня, вороны, сделав круг почета над сквером, заходили на посадку, пока задумавшийся старик подбирал нужную фразу, но стоило им коснуться трехпалыми лапками земли, гусиное перо возвращалось на бумагу и бедным пернатым созданиям, возмущенным подобным нетактичным обращением с их чувствительным слуховым аппаратом, приходилось взмывать в небеса. Жуткое карканье разносилось эхом по городу, и люди пожилого возраста, прислушиваясь к тревожному гомону, шевелили потрескавшимися губами: «Не к добру это, не к добру».
В некотором смысле они оказались правы, погода, с утра солнечная и безветренная, неожиданно начала кукситься, появились тучи, заставляющие дневное светило беспорядочно моргать, и знай я азбуку Морзе, вероятнее всего, смог бы расшифровать их послание жителям Земли, и в частности обитателям сквера.
Старик напротив, допускаю, в отличие от меня, знавал всякие приметы в совершенстве, ибо вслед за воронами, переставшими терроризировать город своими истошными воплями и исчезнувшими вдруг за слуховыми окнами чердаков, резко засобирался, начал складывать бумаги, собрал антикварные письменные принадлежности и… На сквер обрушился ливень, крупные и частые капли неистово заколотили по мостовой, звонко защелкали по листьям лип, забарабанили по крышам домов. Я едва успел раскрыть зонт, хотя плечи и голова были уже мокрыми, и поднял глаза на «чудного соседа», того и след простыл, на скамейке, подвергаясь водяной бомбардировке, сиротливо лежали забытые стариком исписанные листки. Не зная почему, я бросился к ним…
Чуть позже, сидя за столом в своей комнате, в тепле и сухости, мне удалось разобрать и прочесть уцелевшие части удивительного, как выяснилось, письма, адресатом коего ни много ни мало числился Аристотель, а автором… Хотя, постойте, просто наберитесь терпения и, прочитав сохранившиеся отрывки этого послания, все узнаете сами, я лишь позволю себе некоторые немногочисленные комментарии там, где это нужно. Итак…
«С величайшим вниманием, что самым особым образом требуют труды твои, и глубочайшим уважением лично к тебе, друг мой, перечитал в очередной раз (как ты помнишь, мы уговаривались делать это единожды в столетие) трактат «О душе» и, восхитившись наново широтой полета мысли величайшего из воплощенных, смог не согласиться с замечаниями Платона, кои он любезно оставил в виде «нота бене» на подаренном им мне экземпляре.
Количество дней, потраченных мною на раздумья, равно как и количество лиц, встретившихся на Пути, стало неприлично для и без того загруженной до предела памяти несчастного старика, посему встаю вослед за Великим (я о Платоне), как и печальная луна восходит на небосклон только тогда, когда дневное Светило благосклонно уступает ей место, удаляясь на «отдых» для наблюдателя Здесь, но восходя к радости таковой же Там, дабы высказать по интересующему меня вопросу собственное скромное и, вероятно, скудное мнение. В самом начале ты утверждаешь…»
Далее было пропущено две страницы (автор нумеровал каждую) и из-под замоченного, от того и выглядевшего бесформенным чернильным пятном уголка, на сухую часть листа выскакивало: «…познание души». Вот об этом-то я и хочу поведать, а в чем-то и поспорить с тобой, мой дорогой друг.
Далее шла страница, по большей части уничтоженная «небесной карой» в виде дождевого потока, оставившая нетронутыми даже не фразы, а отдельные лохмотья слов, как кочки на болоте, расположенные слишком далеко друг от друга и по этой причине не являющиеся спасительными, но далее судьба подарила три желтых листка, целых и невредимых.
«…Теперь с определенной долей уверенности я полагаю, что сознание души, погруженной в физический мир посредством человеческого тела, имеет форму куба, ограниченного, как известно, шестью гранями, из чего следует, что не мир ограничивает человека понятиями верх-низ, перед-зад и право-лево, а его (человеческое) ограниченное сознание создает и соответствует уровню измерения, в коем и пребывает. Иными словами, наш мир выглядит, как «видит» его наше сознание. Кубическое сознание души человека формирует кубическую форму окружающего мира.
Долгие ночи, мой друг, я выстраивал свою теорию, долгими дорогами я искал подтверждение своим догадкам, долгими словами пытался описать то, что роилось, бурлило и возопило внутри меня. Выслушай же до самого конца выкладки твоего бедного «брата», вынужденного все еще находиться Здесь. Сознание души – это система шести кубов, вложенных, или наложенных друг на друга.
Мы (человеки) боимся вознесения и падения, шорохов за спиной и неизвестности впереди, поворота вправо или влево, потому что взор наш не достигает тех пределов из-за угла бытия, так работает Куб Страха, первый и основной, как фундамент, для остальных.
В него сознание вкладывает Куб Неверия, чей девиз против восхождения на вершину – «Бога нет». Наличие нижней границы будет определяться как «Есть смерть, а за нею пустота».
Сколько таких перевидал я во дни позорных Крестовых походов, и кстати, они, истекающие кровью на чужбине, ставили перед собою «щит» со словами на леденеющих устах: «Будет только хуже».
Взгляд назад, или расширение сознания в обратную сторону Куб Неверия ловко ограничивает фразочками «Кто сказал, что было именно так» или «Все антропологи шарлатаны, а археологи – расхитители гробниц», не более. Для ухода в стороны у такого сознания заготовлено: «Окружающие лгут, причем все и всегда».
Следующий Куб коррелируется с твоими трактатами о типах эгоизма. Друг мой, ты здорово помог мне внутренне определиться с Кубом Самости и его сдерживающими сознание факторами. Путь наверх индивидууму закроет то, что он подразумевает, произнося везде и без меры: «Я и так все знаю», «Это и понятно», «Как это пригодится в жизни?». Рядом с таким человеком становится неодолимо скучно, а выслушав его доводы против расширения вниз: «Хватит и того, что есть» или «Лучше синица в руках», еще и печально. Что касается устремлений вперед, то тут Куб Самости не оригинален: «Умный в гору не пойдет», «Путь проб и ошибок не по мне, пережду». На щите, который сознание повесит на спину, Самость начертает: «Все, что было, – мое, ни о чем не жалею, а если остались обиженные или трупы, это их проблемы».
Ей-богу, все царствующие особы рассуждают именно так, особенно оглядывая со стен поверженного соседского города усеянное телами ристалище. Что касается расширения в стороны, парадигма Самости выглядит следующим образом: «В узких стенах хоть и не повернуться, зато уютно, тепло и меньше убирать…»
Да простит меня читатель, но я снова вынужден вклиниться в стройный хор изложения автора письма своих мыслей по причине практически полного уничтожения стихией листка, на котором едва удалось разобрать изречение Аристотеля: «Ничего не истощает человека так, как физическое бездействие», из чего можно сделать вывод, что автор, известный нам старикашка с гусиным пером, вновь обращается к философу, точнее его трудам, дабы перейти к собственным «кубам».
«…изволь, объясню. Куб Лени отворачивает от любого помысла на подъем мягким, обволакивающим «Успею, время еще есть» или «И так все болит после вчерашнего». Осознание возможного «спуска» будет нивелироваться чем-то вроде «И что толку суетиться, все равно не успею», стенка впереди, пусть и прозрачная, но внушительная станет на фундамент «Вот настанет завтра, там и поглядим» и подопрется колонной «Будет день, будет пища». Наш общий знакомый, ты сразу догадаешься, о ком я, баловался именно этими гиперболами, но что предъявит ложь движению назад, иногда столь полезному, спросишь меня. Думаю, вот так, бесхитростно: «Книгу эту я уже читал, кажется, правда, о чем она, не помню, но перечитывать не стану, ведь я ее уже прочел». В подобную обойму аргументов, что остановят от порыва двинуться в сторону, Лень подкинет: «Не стоит сходить с тропы, идем и идем, чем плохо, а вдруг там, в высокой траве змеи или капканы, ищи тогда неуча-доктора или негодяя-охотника».
И да, драгоценный друг, мне стоит поклониться тебе за нравственную позицию о невозможности никакого общего правила о лжи, но позволь сквозь века мне улыбнуться – я вывел его. Послушай, как ощетинивается всеми гранями Куб Лжи. Верхняя его крышка будет надписана: «Ложь самому себе о себе же», дно обозначится выпуклыми буквами: «Ложь других о себе». Согласись, на такой опоре и стоять-то сложно, не говоря о том, чтобы заглянуть за нее, придется преодолевать ко всему и собственный вес. Прямо перед собой кончик носа будет утыкаться в «Ложь себе о других», а затылок подопрет «Ложь других о других». Погрязший во лжи, что вошедший в темную комнату, разводит руками и нащупывает: «Ложь миру о самом мире». Здесь, милый ворчун, мне хотелось бы напомнить тебе о…»
Бумага – хрупкое и ненадежное хранилище истин, этот факт еще раз подтвердил мой случай, целых три листа (о горе) превратились в мокрый, безобразный ком, унесший в небытие тайну воспоминаний автора об общим с Аристотелем знакомом.
Очередной спасшийся от «потопа» носитель идей удивительного старика принес упоминание мнения философа о гневе.
«…Я помню, друг мой, что гнев не является для тебя пороком. Скудостью моего ума постичь сие утверждение невозможно, иногда мне кажется подобный взгляд возмутительным, безнравственным, а иной раз проглядывает в этом скрытый смысл, увы, слишком глубокий для меня. Но Куб Гнева, который я поместил шестым по счету, в итоге формирует совокупный для сознания Куб Нелюбви, ограничивающий нас, человеков, в трехмерный мир. Грани же его, по моему скромному убеждению, таковы: верх – «К черту Бога, Он никогда не слышит меня», низ – «Ко всем чертям всех чертей, плевать на их рогатые головы и раскаленные сковороды, пусть громче шипят, да и на черный поток Ахерона заодно, будет полноводней», вперед – «Сколько можно бить башкой о стену, а рыбой об лед», назад – «Прадед грабил, дед закопал, отец нашел и все промотал. Кого уважать-то?», стороны – «Куда ни сунься, одни заборы и болота, того и гляди либо солью пальнут, либо подштанники замочишь».
Любезный друг, сим заканчиваю описание выдуманной мной системы из шести Кубов, которая, по сути своей, есть всеобщая человеческая Нелюбовь. Сознание Человека таскает на себе эту Матрицу, как улитка свой домик, и эволюция человеческой души подобна ее скорости на мокром от дождевых капель виноградном листке. Именно так представляется мне вселенная проявленных планов и место человека как носителя Части Создателя в ней. Не буду лукавить, к видениям, что посещали меня во снах, а более всего в болезнях, сопровождающихся грудной горячкой и обильным вспотеванием, я добавлял изыскания умственные, как подвязывает садовник творение Бога, виноградную лозу, к удерживающему ее колышку. Совместные усилия привели меня к следующим выводам: Куб Сознания о шести гранях, помещенный в трехмерное пространство при шести основных направлениях, в сумме дает дюжину совокупных аспектов бытия. Христосознание же (ты представляешь, как тяжело мне произносить имя Его) есть сфера внутри сферы, свобода сознания дает неограниченную свободу пространства. Куб Сознания Человека необходимо трансформировать, сжать в точку, сотворить Христосознание, то есть Любовь. Когда хоть одна грань хоть одного Куба начнет уменьшаться, она «стянет» за собой всю «конструкцию» (в абсолютном значении) в единый центр. Изменение человеческого сознания до уровня Христа означает исчезновение всей Системы Кубов, сжатие их во внутреннее солнце, что изменит форму трехмерного мира на сферическую бесконечность. Такой мир более соответствует…»
И снова несколько страниц, потерявших вид, а значит и смысл, с сожалением отправились в корзину для мусора влажным комком утраченного навсегда послания. Из оставшихся трех листков, пострадавших хотя и в меньшей степени, но тем не менее прерывавших отдельными пятнами стройность изложения мыслей автора письма, можно было сложить впечатление о то ли извинениях, то ли оправданиях Агасфера, да-да, внимательный читатель, эпатажным старикашкой оказался не кто иной, как Вечный жид, и кстати, это многое объясняло в его одежде и поведении.
Едва ли не самый значительный из уцелевших кусков нетронутого текста гласил следующее: «…думается мне, Он знал об этом. Там, у порога собственного дома, Спасителю не дал остановиться и передохнуть вовсе не я, но мое неверие, мелкое, себялюбивое и пустое, как всякая размалеванная ширма, не несущая за деревянными складками ничего, кроме застывшего в замкнутом пространстве спертого воздуха. Стоило Ему двинуться дальше, вера моя разнесла в щепки соответствующий Куб, именно с ней я все еще жив, в ожидании нашей встречи там же, только в обратном направлении, когда Иисус будет спускаться с Голгофы. Засим прощаюсь…»
И в самом низу, на влажном уголке листа, плохо различимо, но все же угадывалась подпись: «Твой Агасфер».
Иной раз время, такое размеренное и привычное в своем ритмичном марше, неожиданно проявляет свою истинную сущность энергии, подвластной не нашим нарисованным циферблатам, но Воле Высших Сил, таинственных, незримых и… насмешливых. Закончив прочтение чужого письма, чего делать, в общем-то, неприлично, я ощутил в голове легкий щелчок и… очнулся на лавке в знакомом сквере без названия. Оторопело глядя на стопку листов у себя на коленях, я громко икнул, а затем начал отчаянно мотать головой, накрепко зажмурив глаза, пытаясь прогнать сон наяву или явь во сне.
– Молодой человек, – раздался рядом сиплый голос, – шейные позвонки весьма уязвимая вещь, будьте аккуратнее с подобными экзерсисами.
Я остановился и открыл глаза, надо мной склонился «недавний» старикашка, кажется Агасфер, начал я вспоминать его имя.
– Позвольте, – он протянул руку, – это мои бумаги, забыл, знаете ли, по-стариковски.
Агасфер свернул трубочкой свое богатство и засунул в карман старомодной накидки, или как там называется его тряпье, загадочно подмигнул мне и произнес на прощание:
– Не задерживайтесь, скоро дождь.
Кольцо на пальце
По уши влюбленный юноша, описать внешность коего не составляет труда, ибо для бедолаг, пораженных сиим недугом страсти, она обща: это неряшливость в одежде, взять, к примеру, мятый воротник или панталоны, натянутые в связи с отрешенностью от бытия наоборот, явственная бледность кожи от недосыпания и блуждающий взгляд безумных глаз по той же причине, а также полуидиотская улыбка на нервных губах, да-да, именно полуидиотская, поскольку скалиться без резона целый день напролет занятие недостойное и даже неприличное для человека, пребывающего в душевном равновесии, – спешил, как ни странно, не под балкон, к предмету воздыханий, а, что не характерно, по делу.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.