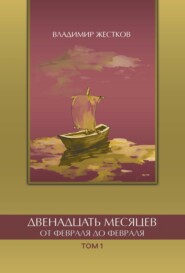Текст
Текст Духов день (сборник)
Полная версия
- О книге
- Читать
– Как это – на небесах?
– Больно любопытна ты, – ответствовала маменька, которой начинали надоедать расспросы дочери. – Тебе на небеса ещё нескоро, так что не торопись, а там – и сама узнашь, что и почему.
Маменька говаривала и так и сяк, а интерес дочерний не иссякал, покуда не стала приходить в года и сама не начала кумекать и про приданое, и про прынса, и про небеса.
А «гансики» отстукивали своё, и каждый домочадец, прежде чем куда направиться, взглядывал на часы и так же, когда возвращался в дом, то спешил к ним же.
Поглядывала на часы и Настенька, а пока что она и в церкву с маменькой ходит, и за скотиной доглядывает, и с подружками хороводится, а всё норовит пробежать мимо зарубинской, стоящей посреди деревни, избы. А столкнётся иной раз с ихним Семёном – парнем много старше её – и будто устыдится и своего малого росточка и неполных шестнадцати лет. Девка не девка, но уже и не подросток.
– Ты чего? – глуховатым голосом спросит он Настеньку.
– А ты чего? – тихо спросит она Семёна.
Ничего более не скажут, а обоим ясно: неспроста встретились, неспроста сломился голос парня, неспроста потишел голос девки.
Помнутся-помнутся на месте – и всяк в свою сторону.
Влетит в избу, сядет к окошечку и призадумкается.
Помалкивает маменька, помалкивает и тятенька.
– В года девка-то входит, – пробует иной раз говорить мужу Наталья. – Присмотрела кого, али её высмотрели. Не сглазили б девку-то, надо бы в Тулун, во храм Покрова свозить.
Степан Фёдорович обыкновенно помалкивает, слушает, что дальше скажет во всем покорная ему супруга.
– Прослышала я, будто Сёмку Зарубина отличает, – продолжает своё Наталья, – мужик давно, а бобыль. Не ровня наша-то ему.
– Ровня не ровня, а с головой парень, – подает наконец голос мужик, – не в батьку родного, балабона.
– А как сватов зашлёт? – будто испугавшись, подступает Наталья. – Как схватит да уводом уведёт?
– Не на чем…
И слышит в том ответе она усмешку, и успокаивается на мужниной руке, какая кажется мягче и теплее любой подушки.
«И впрямь, – размышляет Наталья Прокопьевна уже про себя, – на чём везти? На гнедом али на рыжем? Обе лошадёнки зарубинские – хуже некуда. Ни живые и ни мёртвые противу излишне суетливого хозяина. Не лодырь вроде, не пьяница, а всё валится из рук, всё бы языком трепать. Бабу ли встретит, мужика ли – не обойдёт. И так тебя вертит, и эдак. Сызмальства вить такой-то», – припоминает отца Сёмкиного Петра, которого знала чуть ли не с рождения.
Да и кто его не знал – быстрого, всюду успевающего, но ничего не наживающего балабона. А сын ей нравился, напоминая чем-то собственного мужа. Характерный, праздно не шатающийся, лишнего себе не позволяющий.
Прикидывала мысленно дочку к нему, ставила рядом, и всё вроде выходило – пара.
«Тьфу ты, наваждение какое-то, – переворачивалась на свою половину кровати. – Глаза смежить не даёт, такой-сякой…»
Начинала приглядываться к дочке, строгость на себя напускать, а та, будто угадав мысли родительские, и у божницы подольше задержится, и с вечёрки раньше обычного придет. Иной же раз залетевшим за ней подружкам эдак притворно-равнодушно ответит:
– Ой, не хочу я чтой-то… Вечор третьего дня мне так не пондравилось, думала с тоски помру.
Отмягчает материнское сердце, и, жалеючи дочь, сама начинает гнать из избы, дескать, девичий век короток, шла бы поразвеялась-поразвлеклась.
Степан Фёдорович наружно ни во что не вмешивается, полагаясь на здравый ум хозяйки своей, но, видно, тоже держал на сердце думу, и Наталья свет Прокопьевна о том знала, полагаясь в свою очередь на последнее слово мужа.
Не им, Долгим, за кого попало отдавать Настасью. И жнейка есть, и молотилка. В работе не последние. Брусникины да Дрянные чуть опередили, так от жадности непомерной. У них же три девки, парни – Иван да Гаврила. Девки – мал мала меньше. Каждой приданое припасай, рви из себя жилы.
Но и за Устинку Брусникина не отдали бы в вечные рабы, не говоря уж о Тимке Дрянных. Этот и вовсе крученый.
В другую какую деревню отдать – и того жальчее.
«Даст Бог – обойдётся», – успокаивала себя, ещё больше страшась за старшую.
– Присмотреть бы заранее, за кого отдать Настасью-то, – не выдержала как-то Наталья. – Всё спокойней было бы…
– Цыц, баба, – нарвалась на грубое слово, – придёт время – увидим. Не запрягай лошадь позади саней.
– Чё ты, чё ты, родимый, – поспешила успокоить мужа, – так это я с глупу…
Видно, самой девке решать, за кого идти, и вопрос этот у Долгих больше не обсуждался.
Сёмка тем временем подался в работники в деревню Манутсы, о чём Степан Фёдорыч заметил, что «мерин кобыле не пара». И нельзя было понять: Семёна с его отцом имеет в виду или Настасью с Семёном. Скорей всего, первое, потому что спрашивал, как бы меж делом, наехавшего свата из Тулуна о деревне Манутсы, в которой никогда не был сам, и о том, справно ли хозяйствует некто крестьянин Распопин и как обходится с работниками.
Сват в самом деле знавал Распопина и отозвался с одобрением.
– Плата у него така, – говорил, – год пробыл в работниках – и хошь хлебом бери, хошь корову веди, хошь лошадь взнуздывай. И земелька имется, и масло бьёт, и кузня своя. Но особливо лошадей любит. Самые справные лошади у его. С десяток держит…
– Ну-ну, – молвил на то Степан Фёдорыч. – И я бы подразвернулся, да девки, вишь, одне… Помрёшь и не будешь знать, на кого нажитое бросить…
– Тебе, Фёдорыч, хныкать-то не пристало, могешь жить. И парни у тебя есть. А девки?.. Ну что ж, коли судьба. Тоже золото, ежели от добрых родителев.
Выпили сваты по рюмочке на высокой ножке с серебряной насечкой по стеклу – старинные, дедовские. Сидят, толкуют неспешно.
Настя тем временем раз пять мимо пролетела, и, верно, не без умысла.
– Ты чего, егоза, леташь, юбками шуршишь? – прикрикнул было отец. – Во дворе бы чего поделала…
И улыбнулся своей редкой по красоте улыбкой – короткой, но которая ложится в память надолго, потому что в ней – весь человек. Неустанно трудящийся, живущий достойно и потому знающий себе цену. Привлёк к себе дочь, погладил по голове, легонько подтолкнул к дверям.
Со своей приговоркой всякое утро встаёт Степан Фёдорыч: «Рано встанешь, по двору пройдёшь – рупь найдёшь. Ещё пройдёшь – и ещё найдёшь». От того и хозяйство его крепкое.
Наталья Прокопьевна и того раньше поднимается с постели. Никогда в их избе не знали вчерашних щей, каши, чаю. Только с пылу с жару. Про гостя какого и речи не могло быть – за позор бы сочли поставить на стол несвежее. И в этом тоже сказывалось уважение и к себе, и к людям.
Нанимали Долгие работников, кормили от живота, платили за работу, чтоб без обиды.
В работе сами подавали пример. И земля родила. Как ей не родить, ежели, пока через поле идёшь, все ноги надсадишь – так вспахана, проборонена, обихожена. И скотина водилась, тучнея. В своё время приносила приплод.
Хорошо жилось Настасье, а на сердце неспокойно. Бегает мимо зарубинской избы чаще, чем прежде, бывало, когда Семён с родителями жил.
Говорили, будто в свободное от работы время к дьячку в соседнюю деревню учиться грамоте ходит. А, может, высмотрел кого?.. Вот бы приехал скорей, вот бы налетела да за чуб его чёрный… И сладкое, и горькое, и радостное, и гневное накатывает единовременно, и ничегошеньки ей с собой не поделать.
И набежала эдак-то на Семёна в рождественские захлёсты, всеобщие разгульные дни. Испугалась даже. На месте замерла. Под согнутой дугой Семёновой руки – книжка.
Откатило сомнение от сердца. И верно, книгочеем стал.
– Читашь? – спросила чуть с придыхом, будто умаялась бежать. – Псалтырь? Молитвы Божьи?..
– Да что ты, – выдохнул глуховатым голосом из себя парень, тоже как будто летел со всех ног. – Сочинитель граф Толстой это. Книжка называется «Война и мир».
– Какая война?.. Расскажи!.. – ухватилась за рукав полушубка и с боку начала ловить глазами его глаза.
И сами того не замечая, пошли они за край деревни, за кладбище, к скованной холодами речке Курзанке. Туда, где их уже никто не мог видеть. Знать, приспело время Настасьино, как давно уже приспело время Семёново.
– Душа моя, Настенька, – шептал на ухо. – Только одна ты такая в Афанасьеве.
– Только в Афанасьеве? – переспрашивала не без лукавства.
– Да что ж это я, – краснел парень. – Ты единственная на всю Тулуновскую волость, а для меня – дак и на весь уезд, а то и на губернию.
– На губернию? – ахала.
– На Рассею и на весь белый свет.
– Ну уж, скажешь тоже, – сомневалась. – Чудно это – на весь белый свет…
Сидели, обхватив друг дружку руками на коряжинах. Бродили узкими тропиночками вдоль речки Курзанки. Сидели на крутом бережку, глядели на белый в снежных кружевах лес, да не видели ни деревьев, ни речного изгиба, ни тальника – ничего.
Не заметили, как придвинулись сумерки. Спохватившись, бросилась со всех ног Настасья до избы своей, страшась гнева родительского за долгое отсутствие своё.
Трудился теперь Семён у Распопина с большим напряжением, потому приезжал чаще, бывал в Афанасьеве дольше.
Не осталась их связь на деревне незамеченной, толки пошли, пересуды. Дошли и до уха родительского, проникнув через заплоты и стены усадьбы Долгих.
– Чем Устин-то с Тимофеем хуже парни?.. – осмелела Наталья Прокопьевна. – Уж по работникам-то не скиталась бы…
Притворно прижала конец платочка к глазам. Как водится, нарвалась на редкую, но чувствительную грубость мужа:
– Цыц, тебе говорю! Звери они, а не люди. Хищники! И род их весь льстивый да хищный. За Сеньку лучше отдам Настёну и знать буду, помирая: за хорошим человеком она. Верным! А в силу он войдет, я чую, во-ой-дё-от… Хватка есть хозяйска. Совесть… По правде будет жить. По сердцу.
И заскулившей супруге примирительно:
– Ладно тебе. Не потаскуха ж кака наша Настасьюшка, – пускай погулят, поневестится. Там поглядим, за кем ей быть.
Ничего не сказали ей родители, а пересуды отпали сами собой.
И ещё год минул. И стал собираться Семён на службу царскую, заручившись словом девичьим, ждать его до срока.
А когда съехал до Тулуна, где должен был погрузиться с другими новобранцами на гремучий поезд, Степану Фёдоровичу пришлось прикрикивать и на девку, и на бабу. Да без толку. Не остановил его окрик воя женского, и хлопнул дверью, оставив прижавшихся друг к дружке дочь и мать.
Настасья и Устин
В первый день Рождества пришёл братка Ганя. Поставил кринку молока на стол, потрепал за волосы Петьку, сунул в руку Клашке леденец. Словом да лаской выпроводил на улицу.
– Чё не разболакашься-то? – спросила из кути.
– На минутку я, Настасьюшка, – гости должно наедут.
– Кто же?
– С Заводу кум с кумой.
– Чё там Ольга не управится? Посиди уж, я счас стопку поднесу в честь праздничка.
Гаврила засопел, начал раздеваться. Она тем временем давай на стол собирать. Из курятника достала четверть самогона почитай годичной давности. Налила в ковшик, чтобы четверть не ставить.
Села напротив. Налила брату, себе.
Гаврила выпил, по-хорошему крякнул, вытер усы.
– Крепка, зараза, – потянулся за огурцом, – у тебя только такая, нигде боле.
– Не подговаривайся, братец, вижу – с новостями пришёл…
– Не спрашивай, сестрица, дай закусить мужику, окосею – баба ухватом с избы понужнёт.
– Ну, так что ж, тебе не впервой косеть.
– Ладно тебе, хватит поминать прошлое.
– Прошлое ли? – засомневалась Настасья. – Давно ли пузырил, шляясь по деревне с пьяными дружками?
– Было, да сплыло, – отозвался грубоватым баском. – С семьёй живу, работаю, ни у кого на шее не сижу.
Не спросясь, налил себе ещё, так же молча выпил. Не закусывая, полез за кисетом.
– Ты, Настасьюшка, вопче-то, угадала – с новостью я, – перевёл разговор в другое русло. – С кумовьями Устин Брусникин приезжает, передавал, чтоб в избе была – сватать приедет.
– Вот так-так, – недобро отозвалась, поднимаясь с табуретки Настасья, – тебя счас турнуть или когда с Устином придёшь?..
– Да успокойся ты! – почти выкрикнул Гаврила. – Сядь и послушай пока. Я твой ближний сродственник, хочу добра тебе и твоим ребятишкам.
– Ну-ну… Выкладывай.
– Ты погляди, чё за эти годы с тобой сталось – кожа да кости! Семён, канешна, был мужик правильный, такому памятник на могилке поставить мало, и тебя при новой власти надо на руках носить, что не мешала ему дело делать да ребятишек блюла. Но власть-то – власть, а тебе зубы на полку класть?
Гаврила быстро обогнул стол, мягко за плечи усадил её на место. Сел сам, тут же потянувшись за ковшиком.
– Хватит глотку наливать, – осадила Настасья. – Говори лучше, я слушаю.
– Ты его помнить должна, он до Семёна сватался, да ты матроса захотела.
– Не твоего это ума дело! – опять вскочила Настасья.
– Да я не к тому говорю, а к тому, что помнить ты должна Устина-то. И в деревне он часто был, только не знаю – видела ли?..
– Как не видеть…
С самой прошлой осени надоедать начал. Она с поля, и он тут как тут, она к Ольге, и он там сидит.
И Гаврила о том не мог не знать – хитрый братец, давно уж спелись с Устином, только не знали, как подъехать.
– Должна, говорю, была видеть-то…
– Ну?
– Мужик он справный, хозяин, не пьяница, не бабник и к тебе присох, согласный взять с тремя ребятами.
– Работница ему нужна!..
– Да работницу он и в Заводе мог бы сыскать – тебя ему нада. Не могу, говорит, без неё, по сердцу мне Настасья…
– А я тебя счас ухватом по хребтине – вот полюбовно и договоримся…
Прислонилась к печке, задумалась.
К братке Гане у Настасьи отношение особое – жалела она его, горемычного. Отчего горемычного – на сей счёт соображение у неё также имелось, хотя в глаза никогда подобным образом его не прозывала.
Вернулся с германской калеченым – ногу прострелили ему в той войне. Ходил с палочкой. Но нога – ногой, эту напасть можно превозмочь – мало ли таких-то мужиков возвёртывалось с фронта. Душой был калеченный братка, насмотревшись на кровь, вдоволь покормивший вшей окопных, вдосталь поголодавший и всласть пострадавший мужик.
Другое мучило. Видел, понимал, что русское воинство, к коему принадлежал сам, способно было сломать хребет не токмо немцу, а какому ворогу пострашнее. Русские солдаты лезли вперёд, даже ежели нечем было стрелять – на штыки полагались, да на собственное бесстрашие. И ломили врага. Гнали постылого, радуясь каждой малой удаче. Но вот командиры чего-то недопонимали, иль их самих дурили более высокие начальники: отобьют передовые позиции солдаты, напитается кровушкой павших землица там, где только что кипела жестокая схватка, зачнут обосновываться и осматриваться, чтобы идти дальше, а тут и приказ – отступать. И сколько ж можно отступать от, по сути, поверженного вражины – непонятно. И роптали солдаты, тут уж приступали к горлу со своей агитацией то большевики, то эсеры, то анархисты, то ещё какая-нибудь рвань. Иные бежали с позиций к своим деревням, иные поддавались на агитацию, иные просто замыкались в себе, не прибиваясь ни к какому берегу. Этим было тяжельше всего – лучше уж в огонь кинуться, на пулю иль на штык вражеский напороться. Эти вот и являли в боях чудеса храбрости, только храбрости пустой – не на пользу ни себе, ни Отечеству.
Потому и пришёл с войны сам не свой: за что ни брался, всё валилось из рук. Подолгу задумывался. По старым дружкам не ходил, да и дружков-то осталось – всего ничего. Минул месяц, другой – чернел лицом, глядел отрешёнными от всего глазами. На вопросы отвечал односложно, часто невпопад.
Пробовал прикрикнуть тятенька, прижимала уголки платочка к глазам маменька – оставался безучастным. И однажды явился к сестрице с бутылкой в кармане. Молча сел за стол, так же молча налил в стакан и молча же выпил. Пододвинула к нему тарелку с каким-то варевом, тыльной стороной ладони отодвинул.
С того дня запил. Страшно, запойно запил, спустив аж трёх лошадёнок, коих воровски свёл со двора родительского и продал в соседней деревеньке Никитаевской. И сгинул бы, да однажды не выдержал такого позора крутой характером тятенька Степан Фёдорович: запер сына в бане, на двери повесил тяжёлый амбарный замок. В довесок – рамы снаружи досками заколотил. Неделю держал Гаврилу в бане на одной воде. Убедившись, что тот протрезвел окончательно, выпустил ранним июльским утром и приказал садиться на телегу – семья готовилась ехать на покос.
– Не наладишься жить по-человечьи, своей волей порешу, до смерти порешу, – молвил, глядя вперёд себя.
Все, кто был рядом и слышал хозяйскую угрозу, разом повернули головы в сторону Степана Фёдоровича, ни у кого не осталось сомнения насчёт того, что угроза будет в точности исполнена. Наталья Прокопьевна даже придвинулась к сыну, взяла того за руку, и Гаврила почувствовал, что тело матери подрагивает – видно, плачет сердечная. Молча плачет, дабы муж не увидел и по своему обыкновению не остудил резким словом её неуёмную любовь к их совместному чаду. «Телячьих нежностей» этих Степан Фёдорович не любил, и в семье Долгих не принято было выказывать какие-либо особые чувства к детям, а тем более – на людях. Гаврила на материнский порыв ответил лёгким прикосновением руки к плечу Натальи Прокопьевны, и скупой ласки сына было достаточно, чтобы мать успокоилась.
Радостно было ей глядеть на Гаврилу и на покосе: обливаясь потом, махал косой мужик, насколько хватало сил. Когда садились обедать, ел от пуза, отъедаясь на родительских харчах, а ночью отсыпался в душистом сене. Даже хромал меньше, а может, не хотел показать излишней слабости и терпел мужик, превозмогал боль – о том никто не ведал и про меж собой никто не заикался.
Косил глазом в сторону сына и Степан Фёдорович и, видимо, оставался доволен результатами своей отцовой «науки». А как-то вечером, уже перед тем как на следующий день выехать с покоса, заметил вполголоса супруге, мол, его «воспитание кнутом и батогом» не в пример действенней её слёз и уговоров, на что Наталья Прокопьевна молча кивнула головой.
– Так-то будет с него, – прибавил, подняв к небу палец, Степан Фёдорович. – Не усвоит мою «науку», выгоню к чёртовой матери из дому – пускай где-нибудь в канаве подыхает.
До призыва на германскую жениться не успел, поглядывая в сторону Белых Ольги – девки спелой и слишком уж вольной на язык, что не нравилось родителям Гаврилы, и оба они были против такой невестки. Про таких-то говаривали: «бой баба». И нельзя было понять – в осуждение ли говаривали, в похвальбу ли. Крутила как хотела парнями, особенно безусыми, каким в ту пору был и он. Смеялась звонко, раскатисто, задирая при этом голову к небу и выставляя на обозрение высокую грудь.
Таскался за девкой Гаврила, торчал у заплота усадьбы, заглядывал в окошки, и о том Ольга хорошо знала. Неведомо, чем бы всё это кончилось, но наступил 1914 год и Гаврилу призвали в армию. Не успел парень отъехать от Тулуна на гремучем поезде, как Ольга выскочила замуж, да за такого же призывника, что и Гаврила, только прибранного чуть позже. Однако Гаврила возвернулся, пусть и калеченым, а безусый муженёк Ольгин так и остался безусым, потому как его убили чуть ли не в самом начале войны.
Гаврила зазнобу свою не позабыл и, как ни противились тятенька с маменькой, привёл однажды вдовицу в дом, заявив, что будут они с молодой женой жить отдельным хозяйством, для чего тятенька должен отделить ему некоторую часть от хозяйства своего. И стали нарождаться детишки. Видно, и молодая поспела, и мужик стосковался на фронте по женской ласке.
Не спорил Степан Фёдорович, решив про себя, что так-то, может, будет и лучше, чем не привязанная ни к чему путному, постоянному жизнь уже зрелого мужика. Так и почал братка своим углом, и вроде бы налаживалась его совместная с Ольгой жизнь.
Мало-помалу родители попривыкли к новому положению сына как человека женатого, принимали в доме не шибко желанную невестку, ублажали внучат. А сам Гаврила держал себя с ними так, как будто ничего в их общей на всех жизни не случилось. Крестьянское же дело, к каковскому привязан был с детства, складывалось само собой, благо тятенька в своё время приучил его ко всякой работёнке.
Совсем выпивать Гаврила не бросил, но хватался за рюмку уже с оглядкой, правда, Ольга его не одёргивала, а напротив – сама была не дура выпить, что опять же не нравилось свёкру со свекровью, ведь в крестьянстве женщины держали себя строго, а уж о спиртном и речи не могло быть.
Грешно было Настасье обижаться на братку, один он помогал ей: телегу настроит, смажет, хомут подладит, заплот поправит, косы отобьёт.
Избушку, в какой проживали, ещё Семен купил у старухи Ивленьи: отдал десять пудов хлеба да телка-однолетка.
Пока хлопотала о теле покойного мужа, избушку её чужие люди и заняли. С боем отстаивала своё право на жилище Настасья, и опять же подмог братка. Нацепив пару медалек, что получены были им за фронтовые заслуги, шагнул в дом к непрошеным хозяевам с дробовиком в руках и тех только и видели. Вернулся к сестрице со словами, мол, иди, занимай углы, хозяйствуй…
Привела ребятишек, узлы с барахлом принесла, печь затопила, а она чадит. Полезла – батюшки!.. Середина-то вся провалилась…
Обливаясь потом, приволокла на себе от речки камень в пуда три, положила на кирпичи да глиной обмазала. Так и начали жить. Избушка ветхая, да своя: два входа – со двора и с улицы, в сенях – крылечко в три ступеньки, прясла – так и так; напротив – Беловы, поодаль – Котовы, за огородом – Травниковы.
И Капка вроде стал поправляться, ножками потихоньку переступать. Покряхтывая, вошёл с улицы Петька, свалил возле печки охапку берёзовых дров. Потоптался, будто мужик, исподлобья поглядывая на мать.
– Там кампания валит, к нам, видно, идёт…
– Кто? – всполошилась Настасья.
– Дядя Иван с теткой Лукерьей, дядя Ганя с теткой Ольгой и дядька тот, с которым ты давеча у колодца стояла, да ещё какие-то…
– Вот нечистая несёт, прости меня Господи… Угощать-то чем буду?..
Выскочила, сама не ведая зачем, в сенцы и попала прямо в объятья невестки Ольги, браткиной хозяйки.
– Чё забегала-то, чё забегала? – задышала та ей в ухо дыхом от принятой стопочки наливки. – Встречай кумпанию, за стол сади да покрепче чего. На вот…
Сунула узелок, видно, пирожков с ватрушками. Сама повернула из сенцев на крылечко, где уже топталась незваная-нежданная «кумпания», зазывая певучим голосом в избу.
– Идите, не робейте, ухват я у хозяйки отняла, да скалку та успела припрятать…
Послышался сдержанный смех мужиков, и через минуту человек шесть снимали полушубки, дохи, шапки и платки. Проходили к широкой, стоящей ближе к божнице лавке, прежде чем сесть – крестились.
– Прости ты нас, – говорила за всех Ольга, – знам, что незваны, но теперя ничё не поделать. Не гневись на нас и не гневи Бога – праздник вить большой, потчуй чем есть.
– Да уж, – в тон ей отвечала оправившаяся от волнения хозяйка. – Чё уж теперь, сидите да ждите – ничё у меня для вашего приходу не сготовлено. Не помышляла о гостях…
Сказала сие, знамо, для форсу, по стародавнему обычаю в такой большой праздник, как Рождество Христово, всякий мог наведаться, и не угостить считалось великим грехом. Потому и щей чугунок томился за заслонкой зева русской печи, и сырники сладкие творожные ожидали своего часа в кладовой на жестяном листе, и огурчики, и грибки, и брусника, и в самоваре тлели уголёчки: только раздуй – и запыхтит-засопит толстопузый… И юбка кашемировая была на ней, поверх которой навязан чистый фартучек.
Сновала из кути да к столу, от стола да в куть без показной суетливости, а с достоинством, отвечая коротко на шутливые слова братки. Статная, хоть и небольшая росточком, сохранившая полноту груди и упругость бёдер.
– Ах, сестрица, ах, ненаглядная… Куды там моей Ольге до тебя, – поворачивался к мужикам братка, – всем взяла!..
– Ку-уды мне, – с деланой обидой в голосе отзывалась Ольга. – Родная сестра завсегда краше опостылевшей жены…
Остальные сдержанно посмеивались, искоса поглядывая в сторону стола и отмечая про себя, что уже всё на своём месте, остаётся дождаться приглашения хозяйки, перекреститься и с благословления Божьего принять первую рюмочку крепкого хлебного самогону. А там и пойдёт всё своим чередом.
И по рюмочке первой выпили и закусили, пора бы по другой. Но вот, нежданно для всех, а больше всего для Настасьи, встал со своего места Устин Брусникин и, глядя куда-то ей в плечо, проговорил твёрдо:
– Сватов бы нада, Настасья Степановна, да, видно, я не в тех годах, чтоб женихаться-хороводиться… При всех вот твоих сродственниках хочу сказать: давно, давно желаю видеть тебя в своей избе хозяйкой полновластной и детишек твоих готов пригреть, будто родной отец…
И уже тише, просяще, неуверенно, заглядывая в её тронутые скорбью глаза: