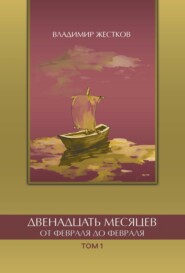Текст
Текст Духов день (сборник)
Полная версия
- О книге
- Читать
С рождением детей семья обретала черты семьи крепкой, даже в чём-то заживающейся: справили обновы хозяйке, купили хороший костюм хозяину. К тому времени прекратились всякие пересуды соседей по поводу соединения глухонемого и женщины здоровой, какая могла бы стать парой кому угодно, да не стала, обретя своё кровное рядом со старухой и её сыном-калекой.
Из родни к концу сороковых в Тулуне у Катерины осталась только тётка Надюшка и её дети. А большая семья Юрченкиных, из которой она выпала, снялась и в полном составе уехала на остров Сахалин по вербовке. Бежала уж в который раз от нищеты беспросветной в поисках счастья, какое никак не давалось этой большой трудящейся семье.
Перед самым отъездом побывала в гостях у дочери мать её Фёкла, которую Настасья встретила со всем к ней уважением. День был будний, хозяева на работе, потому сгоношила бабка чего получше на стол, вскипятила чай.
О чём толковали тогда две сватьи – никто не ведает, но мать свою прибежавшая на обед Катерина застала распотевшей и расслабленной – в том состоянии, в каком бывает удовлетворённая увиденным и услышанным всякая мать. А через некоторое время Катерина с Капитоном ушли провожать семью Юрченкиных на железнодорожный вокзал, где посадили на поезд, и отбыли Юрченкины в дальние дали, как оказалось, навсегда.
– Ужинать будешь? – спросила Катерину Настасья.
– Нет, мама, не могу я сёдни. На душе муторно…
Поглядела на неё Настасья, поглядела и подумала горестно, что теперь уж точно никому не даст её в обиду – ни сынку собственному, ни варнаку какому чужому.
Всякое видывала на своём веку. Бывало, чужой человек ближе единокровного, а единокровный – хуже разбойника с большой дороги. Разденет и разует, а тебе бросит какую-никакую обдергайку на бедность. И её, Настасью, обирали так-то свои же, на кого и не подумаешь.
Часто сидела она у печки, припоминая то одно, то другое. И получалось, что враги вкруг её падали, как снопы. То один сковырнётся, то другой окочурится. А она живёт себе, не изменяя родительским заветам: не зарься на чужое, не трогай того, что тобой не положено, держи язык за зубами, живи своим прибытком, не давай в своем хозяйстве упасть и соломинке, делись с ближним, коли тот попал в беду.
Невестка оказалась как раз такой, о какой грезилось матери для своего калеки-сына. И в том виделся перст Божий: за страданья её, знать, послал Господь таку невестку. И коровой одарил он же: без животины в семье не бывает прибытка.
С того стакана молока Майка стала заметно оправляться и округляться. Катерина бегала к ней чуть ли не каждую свободную минутку, веселея вместе с набирающей силу коровой. А та уже разборчиво ворошила мордой сено, выискивая сладенькое: листочки подорожника, траву зверобой, корзинки ромашки, головки клевера, стебельки пырея, верхушки иван-чая и многое из того, о чём знала только она одна.
С песенкой входила Катерина в загон к Майке, с загодя приготовленными ласковыми словцами, порой лишёнными мало-мальского смысла, но исходящими из самой глуби её женской сути. Да ведь животинка, коровёнка – тоже женщина. Тоже сотворена прародителем для продолжения своего коровьего рода. Всё и вся кругом заплетено-завязано в единый животворящий клубок. Всё и вся, истекая из одного, перетекает в другое, дабы явить миру здоровое и красивое своей душевной и телесной наполненностью потомство.
Майка никогда не ложилась в мокротное. Воды пила вволю. В стайке не гулял колючий зимний ветер.
В доме гудел старинный сепаратор, и то было уже хозяйство бабки Настасьи. Сепаратор был её приданым от родителей, когда ещё много лет назад засобиралась девкой красной замуж за своего демобилизованного из царского флота унтер-квартирмейстера Семёна Зарубина.
Гудел сепаратор, держала бабка за ручку крепкой хваткой, сообщая машине, требуемое вращение его внутренностей. Рядом скакали внуки, ожидая окончания дела, чтобы слизать приставшие к вороночкам сливки, когда Настасья зачнёт разбирать уставшую машину.
Сливки затем превращались в маслице, и его сбивала она же по старинному крестьянскому способу – в четверти.
Просепарированное молочко обращалось в творожок, простоквашку, сыворотку и всё это добро расходилось, обретая своё место в окрошке, сырниках, блинчиках, всякой стряпне, томилось в чреве русской печи и улегалось затем в желудках членов этой работящей семьи, высветляясь в чистых розовощеких лицах больших и малых человеков.
И как тут было не холить Майку, как тут было не помнить о часе, минуте, когда надобно идти к ней: сенца бросить, напоить, порадеть о сухом и чистом месте для её отдыха.
Ещё только хлопнет входная дверь в избу, а корова уже знала, кто к ней сейчас пожалует: Настасья или Катерина. Шевелила ушами, перебирала ногами, поджидая с нетерпением, будто оголодала.
Бабка иной раз топала к ней под собственное же ворчание, выговаривая про себя то, от чего воздержалась в доме. Войдя к корове, досказывала накопившееся уже Майке.
– Ишь, о чём балакают, оглашенные… Дом строить гоношатся… А на меня, старую, бросят и деток, и хозяйство – вороти, как вол… Не наработалась ишо я, не нахлесталась, не намоталась…
Спустя какое-то время говорила уже другое:
– Оно, канешна, дело хорошее… Дом-от свой, что крепость: каждому уголок определится… Каждого обогрет… В старину-то изб чужих не покупали – сами излаживали. Отдельно жили семейством, каждый сам по себе хозяйствовал…
Вздыхала, призадумывалась, застывала, положив руку Майке на шею, забывая, зачем и шла-то к корове. Потом спохватывалась, исполняла требуемую работу и уходила восвояси.
Знала корова и поступь молодой хозяйки. Эта неслась, как угорелая, всё куда-то торопилась, всё боялась куда-то не поспеть. Бывало, что мурлыкала себе под нос песенку, бывало и молчком – не в настроении, значит. Песенки Катеринины Майка слышала не один раз и, видно, они ей нравились. Во всяком случае, как повернёт в сторону хозяйки уши, так они и торчат повёрнутые.
Забывала в такие минуты Майка о жвачке, поворачивая голову к калитке только тогда, когда скрипела железная ось щеколды и в просвете калитки скрывалась фигура молодой женщины.
Но и у Катерины было за душой такое, чего не пересказывала никому и о чём печалилась, кручинилась.
Народилась она сразу после Гражданской в семье крестьян-малороссов. После неё от родителей, Игната и Фёклы, дети появлялись, как на заказ, строго раз в год. Потому уже в пятилетнем возрасте определено ей было место няньки. Трясёт зыбку, в коей кривит ротик последний по счёту, а за драное платьишко хватаются предыдущие. Звенит в ушах няньки от многих голосов братьев и сестрёнок, и нет никакой возможности зажать те уши рученьками, потому как рученьки те заняты. Подводит живот Катькин от голода, а положить в рот нечего, так как бедно живёт семья Юрченкиных.
В начале тридцатых и вовсе стало жить невмоготу – тогда, сказывают, в Малороссии и детишки приготовлялись на прокорм людям. Решили родители спасаться за Уралом. И поехали. Долго ехали, коротко ли – остановились в неком Хилке, что в Читинской области. Место безлесое, с горами каменистыми, да ещё река по прозванию посёлка – Хилок.
Стали жить. И однажды уехал Игнат в Читу, где готовили рабочих для обслуживания железной дороги. Время было летнее, августовское, дождливое, потому река возьми и выйди из берегов.
Глянул кто-то из домочадцев Юрченкиных в окошко, а в огороде – вода. И будто кто распирает ту воду изнутри, и она все полнится и полнится, заливая впадины, скрывая под бурлящей гладью всё что ни попадя. И вот уже стронулся с места парник огуречный: поднялся тот парник с наросшими овощами и – поплыл. Следом подняла вода сруб колодезный, и он так же поплыл в неведомое далёко.
Немножко погодя видят Юрченкины – поднимается западня подпола, будто кто толкает её снизу. Сбилась в кучу семья, завыли детишки, охватила их руками Фёкла на сколько хватило рук и говорит:
– Ну, ребятки, спасаться надо. Полезем на крышу дома, авось перемогём беду.
И полезли, где уселись на драньё, и плачут в голос: тогда в семье Юрченкиной было только детских голов пятнадцать, да сама хозяйка на сносях – вот-вот рожать Фёкле.
Двое суток сидели, не шелохнулся дом под напором воды, хотя вкруг них плавало всякое: срубы домов, колодцев, доски заплотов, сортиров, скарб людишек.
Спустя двое суток подплыли к их дому мужики на лодках, сняли детишек, а мать забрали в родильный дом. Вода стала спадать и наконец ушла в свои берега – видно, другой нашла выход.
Между тем пронёсся слух в народе, будто скоро надобно ожидать ещё большей воды, и стали люди строить плоты, так как полагали, постройки их, на которых спасались, другого напора не выдержат.
Но вода так и не пришла. Фёкла же между тем родила девочку, и нарекли её Августой.
Вода принесла семье Юрченкиных и прежнюю бедность. Снова поехали, на этот раз в Иркутскую область, где и остановились в деревне Заусаево.
Колхоз небогатый, но всё ж землица под окошком, а на ней и картошка, и морковочка, и зелень какая-никакая произрастает. В лесу за огородами – грибы, ягоды, трава луговая для скотинки. Ещё речка Курзанка, а в ней – рыбёшка неказистая, а где рыба, там и люди. Селясь у речки, старые люди смекали по-своему разумно, соображая: не родит землица, так рыбка пойдет в дело – не пропадут.
Работы же в колхозе – видимо-невидимо. Только поворачивайся.
Тут и Катерина пошла робить: поначалу свинаркой, а затем и дояркой на скотном дворе. В войну – страшную, проклятую – трактористкой.
А почему та война страшная и проклятая, так это потому, что взят был приглянувшийся ей паренек, с которым обменивались взглядами на вечёрках, да так и не сказали друг дружке потаённого, что в сердечках их зародилось. Взяли на войну и – убили.
Тошно стало девоньке от того известия, да не одна она подпала под каток войны – всем её сверстницам было тошно, потому как гибли их женихи тысячами на той страшной и проклятой бойне, и почти каждую ожидало впереди мыканье горемычное – вовсе ли без мужа, с мужем ли, но нелюбым и постылым.
Её подружка разлюбезная – Иришка Салимонова – так та никогда и не вышла замуж, а она вот, Катерина, пошла за калеку, но о том будет сказ ниже.
В смутную, тяжёлую весну сорок третьего года пахали они своим звеном из трёх тракторов землицу под посевы. И случилось так, что в чьей-то взбалмошной начальственной голове родился план – поднять болотную залежь. Очень кому-то хотелось, видно, выслужиться, и на Никитаевскую МТС пришла разнарядка. Начальник отряжает трёх трактористок, в числе коих и Катерина. Прибыли на место на своих газгенераторах, попробовали пахать землицу, но плуги увязают, машины натужно гудят – и ни с места. Попробовали взять мельче, но получается одно ковыряние. Бросили такую работёнку: сидят, ждут с моря погоды.
Наехало начальство с проверкой, ругалося – и саботажники они, мол, и вредители. И осудили их звено в полном составе, дали срок заключения по четыре месяца на каждого. А там и вагон вонючий, и колючая проволока лагеря, что находился под самым Иркутском.
Два месяца мантулила Катерина бок о бок с такими же, как и она, угодившими за колючую проволоку за пустяковину, – лопатила землю, таскала на себе брёвна, кирпичи. И надо же было выпасть случаю: делал обход лагеря начальник его, Александр Борисович, как выяснилось, с целью подыскать себе в дом работницу взамен освободившейся, и выбор его пал на Катерину Юрченкину.
Привели к нему в дом за пределы лагеря и оставили. Тут уж и вздохнула она свободной грудью, переделывая работёнку домработницкую с песнями, будто играючи: ходила за скотиной, полола грядки на огороде, мыла, скоблила, стирала, гладила, вытирала сопли единственному отпрыску хозяев, которого обучал игре на скрипке мужчина, тоже из заключенных, но на долгий срок, бывший музыкант откуда-то с запада. Отъелась, нагуляла бока, обрядилась в платьишко новенькое, сшитое на руках из переданного ей хозяевами отреза ситечного.
И минули те два месяца, как один день. И надо было возвращаться в деревню.
Вернулась, и в первый же день побежали за ней местные сорванцы, обзывая каторжанкой.
Тошно стало девахе и так восхотелось бежать из деревеньки сломя голову куда глаза глядят. Ведь хоть и в заключении побывала, да увидела-познала иную жизнь, в которой и война не война, и не надо думать о том, что в рот положить, да и чужие люди к тебе с добром.
Уж опосля, засыпая, часто грезила о том, как бы вырваться из Заусаева, поехать-полететь в незнаемые дальние края – не видеть и не ведать этой деревенской безнадёги.
На работу пошла прежнюю – и потекли денёчки тягучие, как смола, и такие же прилипчивые то одной прорехой, то другой дырой.
И закончилась та страшная и проклятая война. И возвернулись в деревеньку три калеки с фигой в придачу. А таким, как Катерина, уж по двадцать пять годков от роду и всё «в девушках». И тоска гремучая, безнадёга неминучая.
Тогда-то и объявился в Заусаево племянник Настасьин, Костя Маленький. Поспрашивал местных, пронырял по деревне, заявился на вечёрку. Приглядывался, принюхивался, задевал словами, производя впечатление человека ловкого и приживчивого.
Приступился и к ней.
– Я, слышал, Катериной тебя зовут?
– Так вроде звали до сих пор, а тебе чё надобно? – недобро глянула в глаза непрошеному гостю.
– Да вот… – мялся, представившийся Костей. – Купец у меня есть в сродственниках, но без хозяйки в дому…
– И чё он сам-то с тобой не приехал?
– Да есть одна закавыка в ём…
– Стеснительный шибко аль калека какой? – спросила в упор.
– Не стеснительный и не калека: при ногах и при руках, не горбатый, не кривой…
– Ну, дак чё ж тогда?
– Глухонемой он, Катя. От рождения глухонемой. Но ладный из себя, при деле, избёнка у него с матерью имеется. Пошла бы за него, бросила бы к чертям собачьим свой колхоз и жизнь эту каторжную, а?..
– Нет уж, – поднялась Катерина с лавки. – По мне лучше уж калека, чем немтырь.
– Да ты подумай, девка, сейчас мужика днём с огнём не сыщешь, а я днями подъеду уже с ним… – крикнул во след.
Запечалилась-закручинилась девка, сама не понимая отчего. Да и какая девка в двадцать пять лет? Перестарок, почти вековуха. Девки-то до годов осьмнадцати, и те уж торопятся, абы суженого не проглядеть. Хороводятся и хорохорятся, в окошки, где парни живут, посматривают. Ворожбу затевают на Святки, да так заиграются, что обо всём на свете забудут. Смехом звонким, надрывным заливаются. Каждая боится припоздниться с этим вопросом, к каковскому, видно, на свете всё сводится.
И она, Катерина, хороводилась – все известные на деревне гадания на жениха испробовала. Считала попарно принесённые с морозу поленья, бросала катанок за ворота, зажигала моченую в проруби лучину. И то выходило – замуж идти, то выпадала какая-нибудь нелепость. Скажем, катанок ложился носком в сторону какой-нибудь избёнки, в коей проживали старик со старухой. Иль моченая в проруби лучина и вовсе не хотела зажигаться, а надо, чтобы зажглась и потухла вперёд других, какие в руках у сбившихся девонек. Тогда и замуж идти. Что до поленьев, тут считай не считай, всё одно толку никакого: на дню-то охапок шесть надобно принести, и то попарно сойдутся, то хоть лоб разбей о печь – одному пары не будет.
Но на балалайке тренькать не переставала, песнями изводилась, томилась и маялась, как и её подруженьки-сверстницы. На парней посматривала, примечая, что и как. Взгляды ловила ответные, обмирала и опадала чувствами. Ни в чём не бывала плоше других-то – в работе, в песнях, в гулянках. Но не сложилось у Катерины чего-то: то ли бедность беспросветная тому виной, то ли работа от зари до зари, то ли норов казала, да парни обегали со страху перед незнаемым, – кто ж поймёт.
А ей нравился один. Любовалась она им на сходах молоди. И ничего вроде не было в нём особенного, но млело сердечко, мечталось и думалось об нём же. Даже было – раза два провожал до дому. На лавочке сидели. И она ему глянулась – видела то Катерина, чуяла тем местом в девке, коему нет названия ни на каковском языке.
Робкий был парнишка, несмелый с девками. Не лапистый и не горластый. Она потом сколь ни пыталась, сколь ни силилась, не могла даже припомнить, об чём спрашивал, да и спрашивал ли? Затянулось, будто паутиной столетней, заросло мшистым покровом, закрылось наглухо створками ставень то заветное, единственное, несказанное.
Взяли его в первые дни войны, и в первый же год пришла похоронка, мол, пал смертью храбрых под Москвой.
– Мама, – оборотилась к Фёкле Катерина, когда уже посуду убрали со стола и помыли. – Был сёдни тут один из городу, сговаривал за немтыря, сродственника своего, идти замуж.
– Чё это ещё за немтырь? – отозвалась Фекла.
– Не калека, говорит, и не голь перекатная. Работник хороший и домик есть, где он с матерью-старухой проживат. Хозяйка, мол, ему нужна….
– А, девка, смотри, как сама знаешь. Сидеть тебе с нами уж дальше некуда – замуж давно пора. Смотри, а я тебе не советчица.
Походила по избе, добавила:
– Насоветую чего неладное, потом будешь меня клянуть до конца дней своих…
И приехали. Взошёл в дом один Костя, позвал на улицу вроде как на смотрины и для знакомства.
– Да у меня и одеть-то нечего, – сорвалось с языка Катерины. – Пусть уж сам в дом входит, поглядит сам, какую богачку хочет сговорить в жёны.
– Вижу, что не богачи, да и кто нонече-то богат? – настаивал сводник. – Но послушай, чё скажу: иди себе на вечёрку, и мы там будем, вот и поглядишь на брата моего сродного Капитона. Да лучше гляди, а завтра мы опять заявимся и уже в дом к вам пожалуем.
Приволоклась ни живая ни мёртвая к месту схода деревенских, уселась одеревеневшая на лавочку, оглядывая украдкой собравшихся, и чуть ли не прямо перед собой, шагах в пяти, увидела Костю, а с ним того самого, что прочили ей в мужья. И ведь готовилась к худшему, а тут мужик как мужик: в хорошем полушубке, в доброй шапке и валенках, с завернутыми голяшками. Улыбается, смотрит осмысленно и твёрдо.
«Разыгрывают меня, чё ли? – ворохнулось в голове. – Где ж немтырь-то?»
Огляделась вкруг себя снова и никого более не нашла из чужаков – только эти и есть.
Разглядывала уже в открытую, не стесняясь, теша любопытство женское.
Лицо чистое, приятное. И фигура в полушубке проглядывается ладная. Держится свободно, уверенно, будто бывать на вечёрках – дело для него и знаемое, и привычное.
И тот её разглядывает. Улыбается во весь рот.
Сколь так-то продолжалось – нельзя сказать. Но вот Костя вроде что-то махнул руками Капитону и тот кивнул головой. Глянул в сторону Капитон-то и будто бы чуть поклонился ей, вроде как прощался. И она, Катерина, кивнула в ответ, чувствуя притом, как заливается лицо краской. Повернулись и пошли мужики к привязанной поодаль лошади.
Ночь эту Катерине уснуть не привелось. Лежала, подложив под затылок ладошки, думала, вспоминала, грезила. Вся жизнь её пробежала перед глазами – от детства, которого у девки не было, до дней сегодняшних. И сколь ни пыталась, сколь ни выдавливала из себя такого, об чём подумалось и пожалелось бы как о невозвратно потерянном и потому дорогом и желанном сердцу, ничего не могла найти. Всё у неё было и в бедности беспросветной, и в работе ломовой.
«Да разве ж для этого на свет-то рождаются? – думалось горестно. – Да что это за судьбина моя горькая такая?» – жалела самоё себя.
А под утро наплакалась вдосталь и решила твёрдо: «Пойду за немтыря. Брошу этот колхоз треклятый, а там, может, и от немтыря сбегу…»
С тем и подалась на работу.
Вечером явились Костя с Капитоном. Прошли в избу, поклонились. Капитон прошёл к столу и положил на него отрез яркой с цветами материи. Обернулся к Катерине.
– Это, Катя, тебе на платье от моего брата. Шей и носи на здоровье, – сказал за Капитона Костя.
Прошёл к столу и сам, вынув из кармана полушубка пол-литра водки. Поставил, поклонился Фёкле, произнёс:
– Вы, уважаемая, не обессудьте мужиков: без чинов мы и к вашей семье со всем нашим уважением. Хотим вот сосватать дочку вашу Катерину за молодца Капитона Семёновича. Он хоть и не без изъяну, но и работник отменный, и специалист лучший у себя на производстве, и хозяин в дому хоть куда, и мужик справный. За им Катерина не пропадёт. И на её мы поглядели, и хорошо знаем, какая она у вас и работница, и любящая родителей дочь. И красавица писанная: приоденется, приобщается, будет на загляденье и на зависть всем.
Капитон и в самом деле оказался мужиком хоть куда. Очень скоро молодая убедилась, что руки его ко всякой работе приспособлены: табуретку ли изладить, шкаф ли посудный, щеколду какую на ворота, ведерко жестяное, заплот поставить ли, стайчонку ли срубить.
Въедливость его в работе порой раздражала Катерину: семь раз отмерит, прежде чем отрежет. А ты стой рядом, смотри и жди, когда надо будет поддержать чего-нибудь, подсобить там, где одному несподручно. Ну, уж после, когда дело сделано, в радость – обнова в доме ли, во дворе ли, в стайке ли. На многие года излажено и добротно подогнано, чисто отфуговано, красиво и со вкусом сработано.
С настроением и желанием суетился мужик – это видела молодая женщина, не слепая ведь она и не бесчувственная. И стала прикипать она душой к этой чужой для неё ещё недавно семье, а со свекровью Настасьей Степановной сошлась сразу же, как, почитай, в дом вошла.
– Ты, Катерина, поспи лишку, – скажет иной раз Настасья. – Не спеши вставать, намаялась, чай, за неделю-то на работе своей, да в дому работёнки – только поспевай. А я, старая, и скотинку обихожу, и завтрак сготовлю, и деток досмотрю. Отдохни…
Или так-то:
– Ты, Катерина, примай Капку таким, каков есть, и ему ведь несладко таковским-то жить. А ежели с добром, дак горы свернёт Капка-то. Немчура он, канешна, все навыворот понимат, всё с другого какого боку. Ти-ир-пи-и-и, милая. Чё уж тут боле…
Терпеть приходилось непомерную ревность мужика. Идут, скажем, улицей к кому в гости, ты – рядом ступай, да не приведи господи на мужика какого встречного глянуть – пыль до неба подымется: засверкает глазищами, замахает ручищами, того гляди кулаков испробуешь.
Или, скажем, чуть припозднилась на работе, а он уж и прибег к воротам нефтебазовым и затаился где неприметно, ожидая, когда покажешься и с кем покажешься рядышком.
Всю эту науку познавала не разом и не в один день. Через ругань домашнюю, через замахи и выкрики мужиковы. А с годами Капитон осваивал слов всё больше и больше, выделяя из них самые жалкие и потому до слёз обидные, ею, Катериной, незаслуженные. Обучился и подзаборным матюгам.
– Врёщ-щь! – кричал. – Обманываешь! – напирал, делая ударение по-своему на предпоследний слог. – Разговариваешь! Хочешь делать!
Страшно становилось от того крика и угроз. И что там говорить: выскакивала в окошко, в чём была. Пряталась в картошке. Ночевала у соседей.
Отходил от припадков.
Отыскивала её свекровь, уговаривала, и снова переступала она порог избы. И продолжалась жизнь дале – до припадка следующего.
Свой угол
Давно обжилась и обнюхалась стайка. Прясла выгона, скрипучая калитка, ясли, в коих не убывало корма, – вся жизнь Майкина здесь. Стоит себе, поглядывая немигающими глазами вперёд себя, перекатывая в голове жернова своих коровьих дум.
Приходит к ней бабка Настасья, прибегает невестка её, Катерина, заглядывают подраставшие детки хозяев: бросают сенца, ласкают за шею, заглядывают в глаза, что-то лопочут на своем ребячьем языке.
Время от времени ворочает лопатой и молчаливый хозяин – долго, старательно, после него не остаётся ни свежего, ни застаревшего навоза – вычищает после лопаты под метлу, и это Майке нравится. От него, от хозяина, зависят и корма, хотя хозяйка ни в чём не уступает хозяину: косит, гребёт, подгребает и подбирает за Капитоном, а уж он укладывает заготовленное в копны, в зароды, доставляя всё это добро на усадьбу, и тут же укладывает самолично. Это ему Майка обязана тем, что сено никогда не отдаёт прелостью, сберегая в себе до самой весны все запахи, свойственные жаркому месяцу июлю.
В какое-то время хозяйка стала забегать к ней реже, хозяин и вовсе позабыл про корову. Работу Катеринину переделывала бабка Настасья, работу Капитонову – подросшие ребятишки, каковых в семье было уже четверо.
Дело же оказалось в простом: хозяева строили собственный дом. Дело хлопотное, нелёгкое и не всякому посильное. Но её, Майкина, семья могла это себе позволить, к тому же под строительство государство давало ссуды, и семья взяла в рассрочку семь дореформенных тысчонок.
Поехали в лес и навалили сосен на сруб. Привезли и ошкурили, перекатав в штабель, чтобы проветрились и обсохли. В мае месяце собрались друзья хозяина, сродные братья и принялись за сруб. Сам Капитон трудился над брёвнами, доводя до требуемой чистоты и гладкости каждую лесину. Другие подымали те лесины, вырубали паз и углы и укладывали на заготовленный ещё зимой длинный болотный мох, который выпиливали из вечной мерзлоты ножовками, а затем подрубали топорами, и получались кубы неправильной формы. Работёнка, понятно, тяжёлая, зато мох, на славу, укладистей и теплее любой пакли.