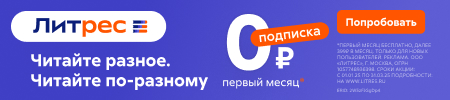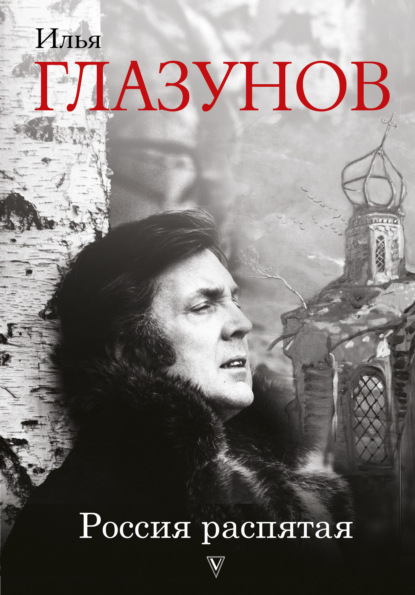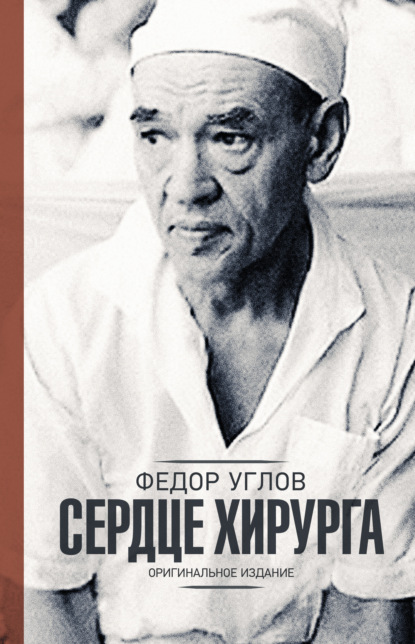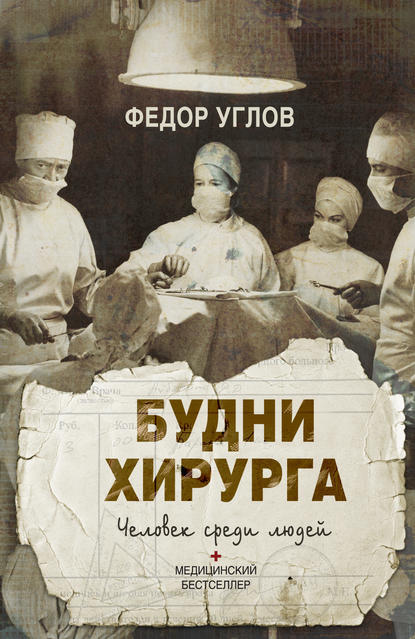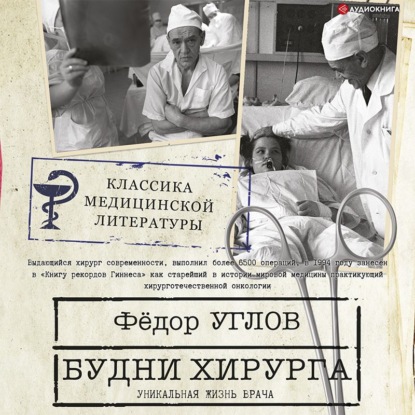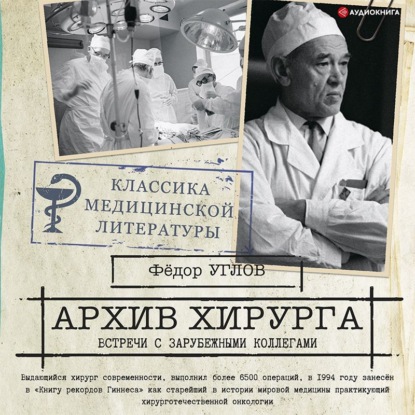Текст
Текст Большая книга хирурга
Полная версия
- О книге
- Читать
– А ну на стол – конфеты, вино, орехи!
Настенька подругам шепнула: «Пойте!» А сама Василия за руку в хоровод ведет, говорит ему:
– Вино до следующего раза обождет. Попляшем, попоем да восвояси… С утра молотить, и кони голодные стоят, на них утром работать. Ждем вас у себя, Василий Васильич!
Тот чубатую голову склонил:
– Мы, Настасья Николаевна, с полным нашим удовольствием!..
Уехали из Горбова с миром, а в поле дали волю смеху: покаталась Настенька на бревне! И если б не это катанье, погуляли б колья по спинам чугуевских ребят и кого-нибудь домой изувеченным повезли…
Вот в ту пору на одной из вечеринок заприметил и полюбил Настеньку с первой же встречи Григорий Углов, гармонист, любитель помериться силой в драке, но и – знали все – мастер «золотые руки», умеющий, как никто другой, работать. Лихо носил он матросскую фуражку, ходил форсисто, дерзко и насмешливо поглядывал на других. Шел ему девятнадцатый год.
Зачастил Григорий в Чугуево! Настеньке тоже по сердцу был этот парень – белолицый, смелый, и лишь не нравилось ей, что охотлив он до пьяных гулянок, дебоширит, уж очень настойчиво, не стесняясь никого, преследует ее, в дом повадился ходить, с Ефимом для этого дружбу свел…
Заслал Григорий, как обычай требовал, сватов, но не тут-то было. Сама Настенька, покоренная преданной любовью Гриши, уже соглашалась на замужество, но отец со сватами даже разговаривать не стал, показал им от ворот поворот. Не мыслил он свою жизнь без дочери, не мог представить даже, что уйдет она из дома, а тут к тому ж и домогается ее пришлый, чужой человек, который хоть и мастеровой, но от земли далек, катается на пароходе вниз и вверх по реке, и неизвестно еще, куда он увезет Настеньку, будет ли она с ним счастлива… Нет уж!
Три года подряд – осенью, когда «Каролонец» становился на зимовку, и по весне, когда уходили в плаванье, – упрямо засылал Григорий Углов сватов в дом Бабошиных. Лицом почернел, про веселые песни забыл и не мог отступиться. Однажды, отчаявшись, пришел к закадычным друзьям Николая Петровича – Матвею Лаврентьевичу и Пелагее Ивановне, – сказал, что на колени перед ними упадет, только пусть помогут, сосватают Настеньку, а то уж и жизнь не мила… Но Николай Петрович и тут остался непреклонным, да еще строго выговорил своим друзьям, чтоб не сердили его, ничего с этой затеей не получится.
Однако Пелагея Ивановна, задобренная гостинцами Григория, женским чутьем понимавшая, что при такой пылкой любви дело нужно добром кончать, снова уговорила Матвея Лаврентьевича пойти к Бабошиным. Но Николай Петрович, когда они вошли в дом, на приветствие не ответил, полез на печь, лег там, отвернувшись к стене. Тогда Пелагея Ивановна тоже полезла на печь, повела с хозяином разговор о том, о сем – про цены на хлеб, про диких кабанов, что повадились из леса на огород бегать, урон от них большой, про погоду еще… Николай Петрович тоже понемногу разговорился. А сваха долго искала что-то у себя в карманах, нашла и протянула ему: «Поешь!» – и сама себе в рот положила. Николай Петрович пожевал, спросил: «Ты чего это, кума, чесноком меня кормишь?» – «Иль не вкусно? – ответила Пелагея Ивановна. – Хлебушком нужно заесть. Пойдем к столу». Так спустились с печи.
А за столом, продолжая разговор, Пелагея Ивановна неожиданно сказала: «Дай-ка руку, кум!» Николай Петрович, ничего не подозревая, протянул руку, Матвей Лаврентьевич быстро принял ее, а проворная сваха со словами: «Господи благослови!» – тут же разняла их руки. Николай Петрович на божницу взглянул, а там восковые свечи тихо теплятся. Выходит, ударили по рукам, у него взяли согласие на замужество дочери. «Настасья!» – закричал Николай Петрович таким голосом, что всем жутко стало, и зарыдал безутешно, уронив голову на стол…
Какие слова нужно найти, чтобы написать о материнской мудрости и материнской любви? Написать вообще о матери и, что самое трудное, о своей матери, которой обязан всем.
Передо мной – пожелтевшие странички писем былых лет. Вот неровные, торопливо бегущие строчки, выведенные рукой моей двоюродной сестры Ольги, дочери Ефима Николаевича. Женщина в годах, она возвращается памятью в незабываемые дни детства, и главное лицо в ее воспоминаниях – тетя Настасья, моя мать.
«Меня поражала всегда тишина в доме у вас, – рассказывает Ольга. – Никто никогда ни на кого не кричал, никто не плакал, не жаловался. Все шло как хорошо заведенные часы: тихо, спокойно. Все работали по силе своих возможностей. У старших детей – большие работы, у младших – малые. Если сказали – вычистить двор, его сейчас же чистят, не оставят на потом, никто не убежит к соседям играть… Мои родители нередко посылали меня к куме Настасье, как говорила мама, на исправление поведения. Потом она спрашивала у тети Настасьи: «Ну, как моя дочь себя вела?» А тетя Настасья всегда хвалила меня и удивлялась, почему я непослушная дома. Скажет, бывало, маме: «Ты с ней будь ласковой, она и станет послушна».
Я называю тетю Настасью великой матерью. Сколько лет прошло, а помнится такая картина. Вы тогда жили у тети Нилы, была осень или лето, и мы с братом Колей ночевали вместе с вами. Мы на полу, вы на кровати, а у кровати висит зыбка. Я проснулась от тихого разговора. Тетя Настасья кормила ребенка. Потом она подошла к каждому, поцеловала меня, думая, что я сплю, кому подушку поправила, кому одеяло – ко всем прикоснулась, всех приласкала…»
Сколько волнующих воспоминаний вызывают у меня строчки этого письма! Ведь она, наша мама, совсем не ходила в школу, была неграмотной, но, обладая прекрасной памятью, легко запоминала содержание книг, что читались в доме вслух, неплохо знала историю русского народа, помнила даты важных событий, имена и дела выдающихся людей. Ее суждения были просты, человечны, поражали глубиной обобщений и своей безошибочностью. Особенно близко к сердцу принимала она судьбы своих односельчанок, в разговорах всегда защищала женщин и нам говорила: «Женская доля тяжелая, с положением мужчины не сравнить. Женщина, кроме большой работы, несет на себе заботу о семье, о муже, часто не слыша доброго слова. А даст она волю сердцу – тут ей позор и оскорбления ото всех!»
Однажды, бросив вызов деревенским порядкам, одна наша соседка ушла от мужа к поселенцу из ссыльных. По тем временам это был героический поступок. Вчерашние подруги плевали ей вслед, норовили за волосы ухватить, оскорбляли, как могли… И моя сестра Ася – ей было лет пятнадцать – сказала маме: «Аннушка казалась хорошей, а поступила так, что прощения ей нет!» Мама помолчала немного, словно раздумывая, сможет ли дочь понять ее, и ответила: «А ты, Ася, не чужим словам доверяйся, а сама подумай. Ведь Аннушка, живя с Макаром, ходила ежедневно в синяках, кроме ругани, ничего не слышала. Не жизнь у нее была, а мука. Вот она и потянулась к совестливому человеку… Ты, Ася, подумай!» – «Я поняла, мама», – сказала Ася, опустив голову.
Позже, в 1919 году, хороший знакомый моей сестры попал в колчаковскую тюрьму. Мама напекла пирожков, положила еще кое-что из домашней снеди в корзинку и сказала расстроенной Асе: «Отнеси ему». Сестра, конечно, рада, но все ж говорит матери, как советуется: «Удобно ли? Ведь все будут знать: ходила в тюрьму на свидание с молодым человеком. Что скажут люди? Что он сам подумает?» – «Иди, – поторопила мать. – Лишь бы ты сама и я плохо не подумали. А он будет рад, что ты в беде навестила его, не боясь пересудов…»
Мать, с сочувствием и, как я сейчас могу судить, с большим пониманием относилась к политическим ссыльным, сознавая, что все их «преступления» – от стремления облегчить жизнь народа. Таких же взглядов, конечно, придерживался и отец. И нужно подчеркнуть, что политические, в основном незаурядные, интеллигентные люди, оказывали заметное влияние на местное население…
Хочется привести тут один случай, не очень значительный, но характерный для обрисовки личности политического ссыльного.
Мама и Ася были в лавке. Сестра примеряла суконную жакетку. Асе в ту пору исполнилось четырнадцать, и ей впервые покупали такую дорогую и красивую вещь. Жакетка так понравилась сестре, что она ни за что не хотела снимать ее. А у мамы при расчете, как на грех, не хватало на эту покупку двух рублей, – по тем временам деньги не маленькие. Она уговаривала Асю снять эту жакетку, примерить другую – подешевле, но Ася никак не соглашалась, слезы текли у нее по щекам. И вдруг один из покупателей подошел к приказчику и сказал: «Я доплачу недостающие…» Отдал деньги и поспешил уйти из лавки, так что мама и поблагодарить его не успела. А приказчик заметил: «Это политический-с!..» И кто-то из покупателей добавил: «Они с себя последнюю рубаху снимут, а помогут…»
Об этом случае не забывали в нашей семье. И мама, рассказывая о нем, давала нам понять: так должны поступать люди, вот вам пример для подражания…
И если тут уместно слово «везение», скажу: моим братьям, сестрам, мне крупно повезло, что наши родители ясно сознавали высокое значение образования, до нужды доходили, но нас, детей, учили, отдавая этому последние силы и заработанные в поте лица деньги. В редкой крестьянской или рабочей семье в те времена было такое. Считалось обычным: три-четыре зимы в школу побегал, писать, считать мало-мальски научился – чего же больше-то! Обувка дорогая, книжки дорогие, и в хозяйстве дел невпроворот. Девочек вообще в школу не пускали: вначале, подрастая, она по дому помогает, потом и вовсе к мужу уйдет, а чтобы стряпать да детей нянчить, грамота ни к чему… Подобным образом, например, рассуждали в семье наших ближайших родственников – у дяди Ефима, родного брата матери. И я снова сошлюсь на одно из писем Ольги Ефимовны.
«Я расскажу тебе, – писала она с неизбывной горечью, – как, крадучись, стоя за спиной брата Николая, узнала я название четырех букв. Затем он стал учить дальше, и я запоминала другие. А мама, которая категорически запрещала мне смотреть в книгу, видя, что я все-таки учу буквы, стала сажать меня в подпол. Я оттуда хорошо слышала «зубрежку» брата и так, на слух, выучила азбуку. А написания букв, конечно, не знала. Тайно охотилась за букварем, но мама и Николай прятали его. И особенно – отец. Он сказал маме, что если я, не дай бог, выучусь грамоте, он прибьет ее, а Кольку заберет из школы.
Если мне все ж удавалось на короткое время завладеть букварем, я сломя голову бежала с ним во двор. Во дворе лежала старая таратайка без колес. Я приподнимала ее и ныряла под нее. Сперва ничего не видно – облако пыли окутывало меня, и когда оно рассеивалось, я, скорчившись, жадно разглядывала буквы. К каждой букве была картинка: У («усы»), О («оса»)… Картинки выручали! Дошла, помню, до рисунка, на котором изображен горшок с идущим из него густым паром, и растерялась: что это? – Г («горшок») или П («пар»)?
Писать об этом неприятно, но меня сильно били, а после порки ставили в угол, заставляя при этом держать в руках ухват или веник. Брата выводили к гостям, как будущего кормильца на старости лет, и школьными успехами его хвалились, а меня держали в подполе. Мелькала мысль: бросить все и бежать за тридевять земель из дома. Но я пересиливала себя… Помогли мне ссыльнополитические, жившие в нашей деревне две зимы. В Великий пост родители на семь недель уезжали в село, где была церковь, и я в это время бегала к ссыльным, а они помогали мне усваивать грамоту…»
Даже сейчас, по прошествии длительного времени, это правдивое, выстраданное повествование о судьбе крестьянского ребенка в дореволюционной России оставляет чувство щемящей тоски и боли. Перечитывая письмо Ольги, я мысленно кладу его в томик Чехова, раскрытого на страницах известного всем рассказа про Ваньку Жукова…
К слову сказать, Ольга Ефимовна уже при Советской власти получила неплохое образование. Стала зубным врачом, а кроме того, в ней сказалась и способность к литературе. Она опубликовала несколько сборников народных сказок.
Хоть обещал когда-то Григорий Углов любимой золотые горы – жизнь определяла по-своему. Не помню своих родителей в праздном отдыхе. Главное, что осталось от раннего детства, – это дороги, дороги…
Летом, в навигацию, пока отец ходил на пароходе, мы жили в деревне у двоюродной сестры матери, Неонилы Осиповны. Поздней осенью мать обряжала нас в дальний путь, и мы всем выводком отправлялись к месту стоянки парохода. А зимовки каждый год были в разных местах – в Усть-Куте, Витиме, на речке Маме, в низовьях Лены, где-то близ Олекмы…
Такой была жизнь семьи долгое время – с 1890 по 1915 год, пока отец не скопил денег на покупку домика в Киренске. В 1896 году родился мой старший брат Иван, за ним, в 1900 и 1901 годах, – сестра Васса и брат Павел, в 1904 году – я, спустя пять лет – Татьяна, а в 1914 году – Людмила. Всегда у матери, терпеливо следовавшей за отцом к очередному временному месту жительства, был на руках малыш. А надо только представить зимние дороги тех лет, те испытания и лишения, которые ложились на плечи путешествующих, особенно из бедной семьи!
У нас еще имелось преимущество: отец был водником, и мы хоть с трудом, но все же могли попасть на пароход, проходящий мимо. Но для этого приходилось днями ждать на берегу, по-цыгански сидя на вещах, боясь далеко отлучиться.
Как сейчас вижу холодную, свинцового отлива круговерть речной воды, с неба сыплется снежная крупа, и вдруг – чей-то взволнованный голос: «Пароход иде-е-ет!» Мы со своим скарбом грузимся в большую лодку, выгребаем на фарватер реки. Пароход, опасно подбрасывая на волнах нашу лодку, быстро проплывает мимо, и мама жестами тщетно упрашивает капитана прихватить нас с собой… Озябшие, подавленные, возвращаемся на опостылевший берег, не ведая, сколько дней и ночей ждать следующего судна. А где-то переживая, напрасно встречает пароходы отец…
Нередко, прождав несколько томительных дней на берегу, мы возвращались в деревню ни с чем – ни один из пароходов нас не взял, а больше уже не пойдут, река стала… Теперь нужно ждать, пока установится санный путь: поедем на лошадях. Мама вздыхает – дорого, и путешествие трудное, долгое, детей можно застудить – с нашими морозами да метелями шутки плохи! Но мне да и братьям с сестренками интересно. Сколько деревень проедем, сколько ночлегов впереди, и всюду разные, похожие и непохожие люди – будет чему радоваться и удивляться!
Из-за частых переездов поначалу в школу я не ходил: занимался с братом и сестрой дома. И лишь когда семья осталась зимовать в Алексеевском затоне, приняли меня сразу во второй класс приходской школы деревни Алексеевки, это в четырех верстах от затона. Утром – мороз ли, пурга ли – мы, затонские, бежали учиться, а вечером, в сумерках, торопились обратно. Стужа стягивала лицо, через одежду добиралась до тела. Только бы не сбиться с дороги, не заплутать! Знали мы, как часто замерзают в наших местах заблудившиеся путники… Ласковыми и родными казались притягивающие к себе огоньки пяти затонских изб. Чуть поодаль от них стояли закопченные мастерские.
В самом лучшем доме жил капитан парохода по фамилии Ман, в семье у него было девять девочек и один мальчик. Другой дом занимал помощник капитана. Третий – машинист. В четвертом же половина (две комнаты) была отведена отцу – он тогда служил помощником машиниста; в другой половине жили масленщики, по двое в комнате. В пятом доме – чернорабочие. Тогда-то я и увидел, в каких тяжких условиях проходила жизнь этих бедолаг…
Работали они много, делали беспрекословно все, что прикажут, ходили в рванье, питались как арестанты, из одного котла, спали на деревянных нарах, кое-как прикрытых тряпьем. Мало кто обращался к ним по фамилии, еще реже – по имени-отчеству. Звали или по прозвищу или говорили: «Эй, ты!..» Был среди них пожилой человек с ввалившимися чахоточными щеками, которого называли Оська Трах-бах. Был Николай Голый, был Алешка Жижа – вялый, с развинченной походкой, неуверенными движениями рук. Может, тут вообще не знали их настоящих фамилий, их прошлого, – никому это и не нужно было. Спустя годы, читая «На дне» Горького, я мог себе сказать: такое я видел. И горьковские Васька Пепел, Клещ, все его босяки – это мои знакомые Оська Трах-бах, Голый, Жижа…
Кажется, единственный, кто в затоне говорил с ними как с равными, не подчеркивая своего служебного и прочего превосходства, был наш отец.
Отца мы видели только по вечерам да в воскресенье. На работу он уходил чуть свет. Шаг у него был скорый, стремительный – редко кто поспевал за ним. И хорошо помню руки его: в затвердевших мозолях, шершавые, как рашпиль, но сколько в них было нежности, тепла, когда они прикасались к нам!.. Отец по натуре был мягким человеком, сердобольным, но характер имел сложный, переменчивый, и лишь мамин такт смягчал его внезапную резкость. Случалось, выпивал, однако превыше всего ставил дело – не позволял себе из-за выпивки забыть про работу. При нас, детях, старался не курить, говорил нам: «Я курю с детства. Из-за невежества, что вокруг меня было. Никто не подсказал: брось, мол, не остановил… А вам курить не советую! Но если все ж потянетесь к табаку, дымите при мне, обещаю, что наказывать не стану. Накажу жестоко, если узнаю, что тайком папиросками балуетесь!»
Такой педагогический ход оказался разумным. Никто из детей в нашей семье не стал курильщиком – ни тогда, ни будучи взрослыми. К слову заметить, и сам отец позже нашел в себе силы расстаться с курением. А что курение – большое зло, наносящее непоправимый вред здоровью, я, как врач, убедился на множестве драматичных примеров. Об этом расскажу в одной из последующих глав…
Отец был, как уже можно, наверно, понять из всего рассказанного, примерным семьянином. Ценил семейный уют, любил что-нибудь мастерить, строить, красить, лепить сибирские пельмени… За такими занятиями шутил или песни потихоньку напевал, знал их много. Но если уж из-за какой-то помехи вспылит, взорвется, тогда держись! Врезалась в память такая сценка… Отец в хлеву делал загородку для теленка, а я помогал ему: доски подавал. Работа подходила к концу, и тут попался брусок из сырого твердого дерева. Гвозди никак не хотели входить в него, гнулись – один, другой, третий… Отец терпеливо разгибал их, брал новые из коробки и так, и этак пытался приноровиться к упрямому бруску. Нет, все то же! И при какой-то очередной попытке, когда гвоздь от удара скрутился чуть ли не в спираль, отец вспыхнул и с яростью стал бить молотком не по гвоздю – по загородке! В минуту начисто сокрушил ее, ругаясь при этом самыми безобразными словами… После же сел на приступок, отдышался, угомонился и спокойно, с виноватой улыбкой начал всю работу сначала.
Бранные слова он произносил не часто, только при «взрывах», и ругался, что называется, на ветер, не адресуя их кому-либо конкретно. Мама очень переживала в такие минуты, старалась перед нами оправдать отца, говорила, что это у него от тяжелого детства, оттого, что гнали его по этапу, много издевались над ним…
…Время, время! Мы оглядываемся назад, на безвозвратно ушедшие годы, и в наших воспоминаниях возникает самое светлое время – негаснущее детство. Впечатления детских лет самые яркие, глубокие, и они во многом определяют то, какими мы становимся позже, в зрелую пору нашей деятельной жизни… Пишу эти строки, и хоровод трогательных видений мальчишеской поры кружит меня, их много! Что выбрать из них?
Пожалуй, наиболее глубоко запали в сердце четырнадцатый – пятнадцатый годы, как бы слившиеся воедино.
Слепит глаза река, а по ней вверх, к Киренску, плывут пароходы, баржи, мелькают весла, а вдоль берега, по дороге, идут подводы. Великое множество людей! Пьяно, под рыдающие звуки гармоней, несется песня отчаяния: «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья, а завтра рано, чуть светочек, заплачет вся моя семья…» Объявлена мобилизация: война с Германией. И черные платки скорбных старух словно угрожающе напоминают: быть беде в каждом доме, быть беде…
А потом она, наша река, ранней весной… Наводнение! Небывалое, такого и самые древние старики припомнить не могли… Гигантский затор льда протяженностью в несколько километров перегородил русло Лены, и буйная паводковая вода, неся поверху громадные льдины, хлынула на деревни, сокрушая избы, вырывая с корнем вековые деревья, срезая, как ножом, возвышенности. Наши дома стояли на круче, и льдины толкались буквально о порог, кипящие брызги летели в окна. Алексеевцы срочно собирали вещи, увязывали в узлы. Гнали скотину в лес, в горы… Со страхом и одновременно с восторгом смотрел я на разбушевавшуюся стихию: какая силища, какой простор!
Вперемежку со льдинами неслись печальные останки смытых поселений: звенья срубов, обломки изгородей, вздутые туши коров, кухонная утварь. Проплыл чудом уцелевший сарай с живым петухом на крыше… И вдруг увидели мы: на очередной громадной льдине едет скособоченная изба, а возле нее в тоскливой обреченности стоят маленького роста человек и собака. Ближе они, ближе… И хотя это грозило великой опасностью, лодку могло опрокинуть, затереть льдами, ударить о бревно, залить студеной водой, наши мужчины решили помочь несчастной (уже видели, что это девочка лет двенадцати). Я в последний момент изловчился и прыгнул в отходящую лодку.
Мы боролись с течением, отпихивали от бортов ледяные глыбы, а они таранили нас. Было жутко, но мы, трое мужчин и мальчик, могли надеяться лишь на себя. После, ночами, бессонно лежа с открытыми глазами, я восстанавливал подробности нашего поединка с бушующей стихией, и сладостное чувство победы, обретенной в суровой борьбе, впервые затронуло мое сердце…
И запомнилось, как в тот день возбужденно хватал всех за руки ссыльный поселенец из политических, как сияли его глаза при виде могучего половодья, и сколько порывистой страсти было на его худом, с рыжеватой бородкой лице, – не забыть! Весело, убежденно говорил он, стараясь пересилить грохот реки:
– Так же неудержимо движение народных масс, товарищи! Мы увидим ее, революцию!
Глава 3
Перед большой дорогой
Революция пришла в одноэтажный Киренск без выстрелов, как праздник. Митинги, горячие речи, красные флаги…
Фабрик и заводов, кроме царского водочного заводика, у нас не было. Крупные богатеи жили далеко, в Иркутске, а мелкие торговцы-лавочники благоразумно отсиживались за прикрытыми ставнями, по-обывательски выжидая, что же будет дальше.
Три торжественных слова громко звучали на киренских улицах: свобода, равенство, братство! Особенно радостно было слышать и повторять их еще и потому, что в памяти многих не затухало эхо недавнего кровавого события – Ленского расстрела. Ведь Бодайбинские золотые прииски находились всего в четырехстах километрах от нас, и среди раненых, убитых, среди тех, кого после бросили в тюрьму, были родные и знакомые киренцев.
Оказалось, что в нашем городке долгие годы подпольно действовала большевистская организация, в состав которой входили ссыльные и передовые рабочие, учителя и служащие. Многие из них были удивительно молоды, как, например, наш восемнадцатилетний секретарь райкома партии Иван Васильевич Соснин, в то время, пожалуй, самый авторитетный человек в Киренске. Он и поныне в моей памяти, порывистый в движениях и твердый в словах, умевший не только говорить, но и слушать. Из его уст на общегородском митинге я, тогда мальчишка, впервые услыхал имя – Ленин.
Время, что и говорить, было бурливое, волнующее и опасное, особенно в те годы, когда на вершинах сопок и у города замаячили казачьи кони колчаковских разъездов… В нашей семье не утихала тревога за отца и брата Ивана. Хотя официально они и не состояли в коммунистической партии, но их сочувственное отношение к большевикам было всем известно.
О политических настроениях отца говорят, в частности, следующие строки из письма двоюродного брата Коли Бабошина. Он пишет: «Я очень любил дядю Григория и тетю Анастасию. Дядю Григория видел в последний раз в Киренске в 1919 году летом. Тогда меня мобилизовали и везли колчаковцы. Я забежал к нему с парохода. Дядя Григорий взял меня за плечи и сказал: «Коля, убегай из этой гнусной армии при первой же возможности». Я ему обещал и, как только заехали за Кочуг, убежал в числе первых. Наказ дяди Григория выполнил».
Однажды брат Иван лишь по чистой случайности остался в живых.
…Тысяча девятьсот девятнадцатый год. Киренск занят белыми под командой полковника Еркамошвили. В городе введен комендантский час, по улицам ходят военные патрули, полевые орудия и пулеметы грозно нацелены на другой берег Лены – на ремонтные мастерские затона, на деревни Мельничная, Воронино, а также на деревню Бочкарево, расположенную вдоль реки Киренги. Там всюду большевики, их вооруженные отряды. Белые настроены нервозно, над каждым, кто кажется им подозрительным, вершится скорый суд и жестокая расправа…
В четырех километрах от города, в деревне Хабарово, тайно собрался крестьянский сход. Обсуждали один вопрос: как помочь красным? С деловыми предложениями выступил на сходе двадцатитрехлетний учитель Иван Григорьевич Углов… Разошлись, как и собирались, в полной темноте, а на рассвете в Хабарово ворвалась полурота белых. Потом узнали: на сходе незамеченным присутствовал переодетый офицер из семьи киренских мещан. Он немедленно доложил полковнику, что подстрекаемые учителем Иваном Угловым хабаровские мужики готовят лодки для красных.