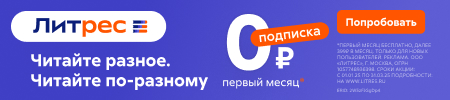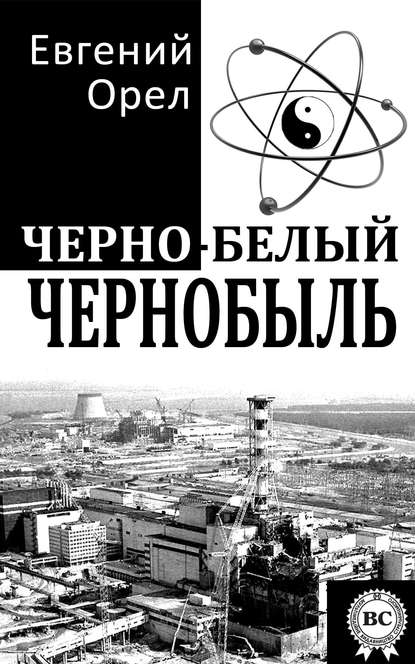Текст
Текст Баклан Свекольный
Полная версия
- О книге
- Читать
Как бы между прочим назвал Татьяну… Дмитриевной. Учительница оторвала взгляд от классного журнала, брови поползли на лоб, даже очки сняла и спрашивает:
– Бакланов, а с чего ты взял, что она Дмитриевна?
Федя этого и ждал. Надо было видеть его торжествующую мину. А жесты! Правая рука изогнута в локте на уровне плеча, пальцы веером, надменные края губ, растянутые в улыбке, прищуренный взгляд…
В ход пошла домашняя заготовка:
– Видите ли, Прасковья Васильевна (мимикой и жестами апеллируя к классу), в стихе… э-э-э… тридцать шестом… да, именно там. Так вот, в стихе тридцать шестом об отце семейства Лариных Пушкин сообщает нам следующее:
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир
Под камнем сим вкушает мир.
– Так что, – снисходительно кивая, продолжал Фёдор, – Дмитриевна она звалась, Татьяна Дмитриевна.
От нахлынувших эмоций он даже не задумался, как правильно: звалась кем или звалась как? Да ему и не суть важно: фурор уже произведен.
Класс одобрительно загудел, а Прасковья Васильевна, слывшая лучшей среди «русских» преподавателей, подавляя смущение, решила выбить инициативу из рук самодовольного знатока:
– Молодец, Бакланов! Докопался!
Прозвучало не очень убедительно, и Федя саркастическим тоном упрочил статус-кво:
– Ну, вы же сами нам постоянно говорите, что тексты надо читать внимательно.
Это уже «потолок», апогей. Симпатии на стороне Бакланова. Безоговорочно!
Не желая терять даже толику успеха, он ни к селу ни к городу поинтересовался, знает ли кто, почему строка «Мой дядя самых честных правил…» во времена Пушкина вызывала смех. Ответа нет, и все ждут с нетерпением, чем ещё их ошарашит доморощенный эрудит. А вот чем!
– Дело в том, – прищурившись, Федя снова придал телу позу оратора с указательным пальцем кверху, – дело в том, что во времена Пушкина жил и творил дедушка Крылов. Так вот у Ивана Андреича есть басня «Осёл и мужик». Она-то и начинается фразой «Осёл был самых честных правил», так удачно обыгранной Алессан-Сергеичем.
Аудитория тихо внимала. От Прасковьи Васильевны не ускользнуло фамильярное обхождение с именами классиков. Педагог дала Фёдору возможность выговориться, надеясь, что в конце концов он запутается в словесах и на чём-то проколется. Это, думала она, послужит хорошим уроком зазнайке Бакланову, да и другим любителям повыделываться.
Оратор пребывал на пике красноречия. Заворожённо, будто в состоянии транса, класс поглощал его каждое слово. Если бы Федя надумал зловеще пробасить: «Бандерлоги! Хорошо ли вы меня слышите?», ответ вряд ли нуждался бы в уточнениях.
Только во всём нужна мера. В Украине есть поговорка «передати куті меду». Нынче это зовётся «перебор». Именно его и допустил Фёдор Бакланов, когда надменно прибавил:
– Правда, в наше время эта басня известна только специалистам.
Ну-у-у, это уж совсем… Посыпались шутки, смешки, реплики «Федя-специалист», «профессор Бакланов» и прочее. И пусть не поражение, но потерю толики реноме он ощутил.
Авторитет постепенно восстановился, и укреплял его Фёдор ещё не раз.
Когда изучали «Горе от ума», Бакланов назвал Чацкого хамом, болтуном и бездельником, притом со ссылкой на текст комедии, где нет упоминаний о занятиях Чацкого, его образовании, взглядах. Окромя разве что согласия служить и твёрдого отказа прислуживаться, от чего Чацкому, видите ли, тошно. И ни намёка, окончил ли герой хоть какой-то замухрыстый университет. А раз так, значит, он не только трепло, но и невежда. И если Грибоедов нигде не указал, чем же занимался главный герой, то разве это не повод считать, что Александр Андреевич Чацкий – по сути дармоед и сибарит? В довершение сказанного Федя сослался на критику Белинского, а не на гончаровский «Мильон терзаний», назначенный как единственно верный трактат по «Горю от ума».
Учительнице ничего не оставалось, как твердить, что Бакланов чего-то недопонял и перейти к другому персонажу комедии. По классу прокатился рокот недовольства в знак понимания, что диспут училка проиграла. Акции Фёдора подскочили до небес.
На этом дискурсы «профессора Бакланова» не закончились. Потолком его изысканий оказался образ Анны Карениной. Отвечая урок, после долгих рассуждений о тяжкой женской доле Федя назвал Каренину… шлюхой!
Все привыкли к дерзким выводам Бакланова и к его умению доказывать свою правоту. И теперь, в ожидании новых откровений, класс окутала тишина. Жуткая тишина, до боли в ушах.
– А что? – не обращая внимания, пояснял Федя эту неканоническую трактовку образа героини. – Она бросила мужа и ребёнка, попрала патриархальные основы русского общества!
Все оживились в нетерпении, как же учитель опровергнет Бакланова, если сумеет, конечно.
Такие дискуссии давно воспринимались как спортивное зрелище. Публика жаждала поединка. И его ход зависел от педагога, оппонирующего ученику-выскочке.
Увы, на сей раз честного боя не получилось.
– Бакланов, ты вообще-то думай, что говоришь! – резко перебил учитель-практикант. – Ты же несёшь откровенный бред!
– Николай Дмитриевич, а можно более аргументированно? – съязвил кто-то с «камчатки».
Класс дружно и шумно повернулся в сторону говорившего.
– Ага, жди! Щас начнётся, – послышался недавно ломанный бас инфантильного подростка, такого же, как Бакланов, наглого и заносчивого.
Учитель, быкоподобный мужлан, опешил от неожиданного поворота в сценарии урока. Пунцовое от волнения лицо перекосилось от забегавших желваков. Выходец из крестьянской семьи, он привык всё выполнять не как на ум взбредёт, а «как надо». Тем более скоро сдавать отчёт о практике, а там не за горами защита диплома, и скандал ему совершенно не улыбался.
– Да тут же всё ясно! – спокойно продолжил Бакланов. – Тоже мне, «протест против общественных устоев». Кстати, Николай Дмитриевич, а вы знаете, что от первого секретаря горкома недавно ушла жена? Да не с кем-нибудь, а с офице-еро-ом! (Фёдор явно намекал на воинский статус Вронского). Так это что, по-вашему, бунт против советской власти? Или, может, против партии?
Последняя фраза вывела из терпения начинающего педагога. Подобные шутки о коммунистической партии в то время могли закончиться в местах не столь отдалённых. Практикант потребовал, чтобы Фёдор вышел из класса и без родителей в школу не появлялся.
Уже в коридоре Бакланов приоткрыл дверь и, просунув голову в проём, уточнил:
– Не понял! Как это – без родителей не появлялся? Мне что, с ними каждый день приходить?
Класс грохнул от смеха, наблюдая за кривляниями забияки.
Изменившийся в лице учитель вскочил с места – и вдогонку за Федей. Не желая получать затрещины да подзатыльники, тот захлопнул дверь. Коридор залился эхом от топота бегущих ног.
Так Федя и добежал до выпускного, а затем и до нынешнего статуса «на подхвате».
Глава 4. Согласно с чем
Понедельник, 4 октября 1993 г.
Время – 09:45.
Задание получено. Теперь нет нужды нагнетать ауру дикой озабоченности, тащить из библиотеки журналы, что-то лихорадочно писать. И если начальство прицепится…
– А чем вы, Фёдор Михалыч, сегодня занимаетесь?
…тут же и выдать:
– А вот! Готовлю раздел по…
…и далее без запинки: номер и название темы. Больше всего Фёдор боится вопросов – а что именно он пишет. Но если умело запудрить мозги формальными реквизитами, начальник отвянет вполне довольный. Мало кто дословно помнит даже название темы, а не то что её номер. Теперь же, когда поручена вычитка рекомендаций, – продукта коллективного труда, – у Фёдора железная отмазка на весь день, и неудобных вопросов не предвидится.
«Большая работа начинается с большого перекура» – этот принцип Федя исповедует буквально. Сегодня же делает исключение. Во-первых, закончилось курево, а «стрелять» он всегда считал зазорным. Во-вторых, на работу опоздал, и любая отлучка вызвала бы негодование коллег. Они и без того косо смотрят на нерадивого сотрудника, не знающего, чем заняться.
Фёдор не может понять, почему в НИИ – научно-исследовательском институте! – надо торчать в кабинете «от сих, до сих». Ведь наука регламента не терпит. Озарение может настигнуть не только за рабочим столом, но и во время партии в теннис или в шахматы. Идея может родиться даже во сне, как таблица Менделеева. И вообще, мозг учёного работает круглосуточно, разве не так? Руководство его аргументы не впечатляли, вот ничего и не оставалось, как тупо изображать активность с девяти до шести согласно распорядку.
На столе стопка бумаги с текстом. Сиди, вычитывай, правь, если видишь чего не так. И даже если не видишь, всё равно правь, иначе скажут, что читал невнимательно. Помарки, опечатки, неточности всегда заметней, когда глаз не замылен, и даже в безупречном тексте свежий взгляд хоть одного «жучка», да выцепит.
Текст по-украински. На календаре – начало 90-х. Пару лет назад комом с горы свалилась независимость. Росчерк пера парламентского спикера, подкреплённый волей граждан, выдал карт-бланш на создание новой державы со всеми атрибутами. Среди последних и язык.
Выяснилось, что украинский по-настоящему знает не так уж много народу, чтобы вести речь о нации как едином целом. Большинству граждан оказались неведомы многие нюансы «державной мовы». Часто на письме и в речи применялись русизмы из-за скудости словарного запаса. Да и откуда тому запасу взяться, если десятилетиями язык использовался разве что в фольклоре и в газетах?
Кто-то прекрасно знал украинский, думал на нём, искренне радовался, что наконец-то страна независимая, и «рідна мова» – одна для всех державная. Часть народа ненавидела украинский и считала его «наречием великорусского», или – по-Валуеву[3] – «украинского языка не было, нет и быть не может». А кому-то и вообще до лампочки, «по-каковски гутарить», – лишь бы понимать и быть понятым.
Что ни говори, но страна, едва успевшая родиться, столкнулась с языковой проблемой. Документацию следует писать по-украински, но мало кто умеет это делать на должном уровне. О грамотности даже речи нет.
Государственный язык не стал объединяющим началом. На одних территориях говорили по-русски, хоть и с примесью украинизмов. На других – по-украински, но по-разному, притом настолько, что порой казалось, люди говорят на разных языках.
Феде однажды попалась книга о том, как создавалась Италия в середине XIX века. Тогда земли, отнесённые к итальянским, были собраны в единое государство. По преданию, граф Кавур – один из отцов-основателей – изрёк программную фразу: «Италию мы создали. Теперь надо создать итальянцев».
Нечто подобное, считает Фёдор, наблюдается и в Украине: страна – есть, украинцев как единой нации – нет.
Федя не столько читает полученный талмуд, сколько размышляет о судьбе страны да об её народе. Коллеги время от времени меж собой советуются, какое слово чисто украинское, а какое привнесено и, значит, недопустимо. Особенно стараются избегать русизмов. Понятное дело – когда два близких языка живут бок о бок и вперемежку, ни один не выглядит чистым. И всё же для заимствований есть пределы, за которыми язык превращается в гибрид, суррогат, а точнее – суржик.
Путаницу вызывают и предлоги. В русском принято говорить «смеяться над кем-то», а «смеяться с кого-то» признано украинизмом или даже «одессизмом».
«Вот удача-то!» – заметив ошибку, Федя расцветает в лице. Вместо «згідно з чимось» (согласно чему-то) в тексте трижды встречается «згідно чогось» (всё равно, что неграмотное «согласно чего-то»). И надобно ж тому случиться, что накануне Федя приобрёл Словарь трудностей украинского языка! И сейчас же не преминул украдкой в него заглянуть.
Да, так и есть: «згідно з чимось». Фёдор прячет книгу в стол и, напустив на себя побольше важности, направляется к Зинаиде Андреевне.
– Простите…
– Да? – Коллега удивлённо вскидывает седые брови, рука машинально снимает очки, но не кладёт на стол, и они так и свисают меж пальцами за ручку. Нижняя губа чуть выпячена, глаза прищурены, брезгливая гримаса – типа чё ему, бездари, надо.
– Здесь бы исправить на «згідно з чим», – следует робкое предложение.
– Федя, не выдумывай! Надо писать – «згідно чого»! Плохо ты, братец, украинский знаешь.
Коллеги поддерживают Примакову. Хоть и не знают, как правильно, да только помыслить не могут, чтобы какой-то пижон осмелился поучать «саму Зинаиду Андреевну»!
К разговору подключается Виктор Васильевич Цветин, старший научный сотрудник, бывший партработник. Прежде по карьерной лестнице добрался до инструктора ЦК. Ездил по стране с проверками, не гнушался даров, капризничал, если ему подносили «не то». В конце концов пал жертвой элементарной подставы: подвели его под передачу «презента», и в нужный момент в кабинете возникли сотрудники прокуратуры, с понятыми да свидетелями. По закону Цветину грозило лет 8-10 с конфискацией, а по цековской солидарности его снабдили «золотым парашютом» в виде приличной должности в НИИ.
Цветина забавляет, как Примакова правит мозги Бакланову, и он не лишает себя удовольствия поддать сарказма:
– Ты бы, Федя, на курсы украинского походил. Тут в академии недавно открыли, – и особо подчеркивает, – для иностранцев.
Атмосферу пронзает поток насмешливых флюидов. Молоденькая Валя Зиновчук, новоиспечённый кандидат, подленько хихикает. Не в открытую, а так, чуть приглушённо, отчего смех больше напоминает сдавленное хрюканье.
Ожидания оправдались. Теперь надо выдержать паузу и гордо нанести победоносный удар. Нет, что ни говори, а дешёвые эффекты Феде удаются на «ура», хоть и нередко потом дорого ему обходятся. Ну так… то ж потом!
Вернувшись на рабочее место, Федя для вида шелестит бумагами, будто занят по самое не могу. Когда о нём забывают, рука тянется в ящик стола за «Словником труднощів української мови». С тем же равнодушным видом Бакланов снова подходит к Примаковой.
– Взгляните, пожалуйста, – показывает нужную статью словаря, на этот раз из принципа не обращаясь по имени-отчеству.
– А? Что? – встрепенувшись, интересуется профессор, бликая трусливыми глазками то в словарь, то на Федю. Чутьё подсказывает: случилась лажа и предстоит минута позора.
Самообладание надо сохранять. Примакова чуть прикусывает губу, покрасневшее от конфуза лицо покрывается испариной. Федя злорадно лицезреет мечущиеся зрачки, стараясь не выплеснуть радость от победы, хоть и мелкой, но приятной.
– Вот, сюда посмотрите, – пальцем указывает нужную строчку, – да-да, именно здесь, видите? – нудит он голосом, пестрящим спесивыми нотками.
Зинаида Андреевна изучает статью «згідно з чим». Поняв, что неправа, да ещё так опозорилась перед «неучем Баклановым», она упорно дырявит глазами страничку, желая потянуть время и отсрочить неизбежное. Федя распознаёт выжидательную тактику и…
– Кхе-кхе, – выразительно прочистив горло, нетерпеливой чечёткой стучит носком туфли об пол. Металлические набойки хорошо звенят даже о линолеум. Сцену довершают картинно вскинутая левая рука и подчёркнутый взгляд на часы, мол, время не терпит.
– Ну да, правильно, – наконец-то сконфуженно, тише обычного, выдавливает из себя Примакова, и Федя молча идёт на место.
Сотрудники оживляются. Никто больше не хихикает, и в общем замешательстве слышится:
– Надо же!
– Хм-м-м…
– Вот это да!
– Наш самородок-то чего выдал!
– Глядишь, молчит-молчит, а потом ка-ак…
– Ну, Федя, ты даёшь!
Реакции Бакланова не следует. В потоке двусмысленных похвал сквозит общая досада на то, что именно он, а не Примакова, оказался прав. Все понимают, что для Фёдора важно не истину выявить, а показать превосходство над окружающими хотя бы в чём-нибудь, пусть и в самом ничтожно-мелком.
Недоразумения такого рода возникали у Бакланова и прежде. Тяга к дешёвым эффектам приносила сиюминутную выгоду, но его гонор и надменность нередко ставили коллег в неловкое положение. Ему не раз по-доброму советовали вести себя скромнее. Он же воспринимал такие увещевания как прямой указ не высовываться. Но тогда это был бы не Фёдор Бакланов. Градус конфликта из раза в раз нарастал и сегодня, похоже, достиг точки закипания.
Фёдор уж собрался молча сесть на место. Его остановила реплика Виктора Васильевича:
– Это Федя специально словарь принёс, ткнуть нас носом, что мы, мол, не знаем украинской мовы.
– Да, Виктор Васильевич, именно для этого я словарь и притащил! – Федя едва не срывается за грань грубости.
Оживление сменяется шоком. Бакланова несёт:
– Специально месяц назад купил. Всё выжидал, когда же случай подвернётся. Даже пометку сделал. Вот, взгляните!
Федя украдкой чёркает карандашом «галочку» напротив «згідно з чим». В его руках книга совершает полукруг, чтобы все могли увидеть, где именно он сделал отметку.
– Видите? – его злорадный тон выходит за рамки привычного кривляния. – Я же знал, что рано или поздно кто-то из вас облажается. Потому что не только я украинского не знаю, но и вы далеко не ушли. Только понты гоните, что вот, мол, «які ми свідомі» (какие мы сознательные). Где же вы раньше были со своей свидомостью?
Обращаясь ко всем, Фёдор задерживает взгляд на Примаковой. Её лицо каменеет. Щёки, пунцовые от злости, нервно подрагивают. Руки неловко и рефлекторно перекладывают с места на место бумаги на столе.
Многие помнят, как в середине 80-х Зинаида Андреевна первая выступила в осуждение двух сотрудников, уличённых в украинском национализме. Когда же с 91-го украинство утвердилось на официальном уровне и превратилось в предмет гордости для одних и в профессию для других, Примакова, опять же среди первых, перешла с языка на мову. И больше не вспоминала отца-кагэбиста, прежде боровшегося с шовинизмом и национализмом. Не высказывалась и о том, сколько её папа «передавил и сгноил в Сибири этих националюг». Времена поменялись. Говорить о «подвигах» родителя нынче стало не только постыдно, но и небезопасно. Немудрено, что Примакова больше других принимает слова Фёдора на свой счёт, хотя и остальным его речи комфорта не создают.
А Фёдор беспощадно неукротим во гневе. Его раздражение накаляется с каждым словом:
– Какие вы на хрен «свидомые»? – гнёт он свою линию. – Вы… вы знаете, кто? Вы – конъюнктурщики! (Небольшая пауза.) Хотя нет! Для вас это чересчур лестно! Вы и слова такого не стоите! Вы – приспособленцы и прихлебатели! Вот вы кто! Скажи вам сейчас, что надо снова все писать и говорить по-русски, вы же мигом перекраситесь! Ваша сущность в том, что у вас нет никакой сущности!
Коллеги не знают, как реагировать на этот затянувшийся пассаж. Только очкарик Романченко, старший научный сотрудник, с круглой мордой о двух подбородках, недовольно бурчит:
– Ну, Баклан, ты ваще…
Фёдор не желает выслушивать, что он там «ваще». Не давая хаму опомниться, категоричным тоном требует:
– Так, полегче! Моя фамилия – Бакланов! Попрошу не коверкать!
Романченко – типичный быдловатый вампир. Ему только того и надо: зацепить, нахамить и, если ему платят той же монетой, продолжать натиск, покуда не выведет жертву из равновесия. Подпитается энергией – и доволен, а пострадавшего колотит по-чёрному. Вот и сейчас, почуяв в Бакланове «донора», он давай наращивать прессинг на ещё более повышенных тонах:
– Та шо ты тут развыступался! Баклан – ты и есть баклан! – для большей убедительности Романченко даже привстаёт.
– Я сказал – не сметь коверкать мою фамилию!!! – рявкает Фёдор, хлопая ладонью по столу. Карандаши и ручки в настольном наборе испуганно подпрыгивают.
Комната погружается в недобрую тишину. Взоры не участвующих в перепалке робко скользят с Бакланова на Романченко и обратно.
По молчаливому согласию требование Бакланова признаётся справедливым. Романченко чувствует неодобрение коллег и, ни на кого не глядя, садится на место.
В давнюю бытность председателем колхоза Николай Андреевич Романченко однажды по пьянке объявил о решении податься в науку. По материалам своего колхоза и ряда соседних нацарапал и защитил кандидатскую диссертацию. Тема – что-то там о машинном доении. В написание диссера председатель впряг весь плановый отдел, да и не только – работа нашлась многим спецам.
После защиты Романченко устроил шикарнющий банкет. За счёт «заведения», конечно. Обещал премию всем помощникам, но… забыл. Из колхоза ушёл по-плохому.
В институте ему предложили старшего научного сотрудника. Хотели дать отдел, но передумали: потенциал не тот, да и с характером его только пасти коров, а не людьми руководить.
Звонит телефон. На шесть сотрудников два аппарата – один приютился у Примаковой на столе, всегда заваленном бумагами, другим «командует» Валентина. Она же в основном и принимает звонки. В этот раз после «аллё» Валя, ни на кого не глядя, объявляет:
– Тут просят Фёдора Михайловича… Бакла-а-анова, – язвительно растягивая фамилию.
На неё Федя никогда не злится: мелкая сошка, считает он.
Валя держит трубку на весу, стервозным взглядом исподлобья следя за движениями Фёдора. Губы искривлены в подобие улыбки.
На ходу Федя перехватывает трубку. Валя украдкой проводит пальцем по его запястью. Он будто не замечает позывного сигнала и нарочно избегает встречи взглядами.
В трубке – извиняющийся голос Аллы Петровны: с новым квартирантом она придёт не сегодня, а завтра.
– Хорошо, завтра – так завтра, – соглашается Фёдор.
– Это я на тот случай, Федя, вдруг у тебя какие дела появятся на вечер.
– Да, спасибо, Алла Петровна., – облегчённо вздыхает он, вспомнив о приглашении Капитана. «И хорошо, – думает, – в день по одному большому делу, не более».
Валя не может удержаться от комментария:
– Ах-ах-ах! Какие мы официальные! Алла Петровна… Нет чтобы – Аллочка!
Федя, не поворачивая глаз, резко машет на Вальку рукой, мол, «заткнись». Из-за неё Фёдор чуть не сболтнул «Передайте Карине спасибо за конфеты». Вовремя осёкся: Алле ни к чему знать о визитах замужней дочери к холостому квартиранту.
Бакланову Карина не нравилась. Вроде симпатичная, но не тянуло к ней. Бесцветные брови на фоне бледной кожи, ровные редкие волосы, аккуратно собранные в крысиный хвостик, Федю не возбуждали.
Едва ли не с первого дня появления Бакланова в качестве квартиранта Карина часто к нему захаживала с амурными намёками, но всякий раз получала безоговорочный «отлуп». Ссылался Федя на то, что муж у неё бандюк, да и дружки того же сорта. «Не хочу с ними связываться», – жёстко парировал он домогательства Карины. Только всё оказалось намного сложнее. Фёдор сам не заметил, как стал заложником ситуации.
– Спасибо, Алла Петровна. До встречи. – он едва не положил трубку, но словоохотливая квартирная хозяйка не унимается:
– Он хороший парень, стихи пишет, – рекламирует она луганчанина.
– Ну да, вы говорили. Простите, я немножко занят.
Словесное недержание проявляет и Романченко:
– «Немножко»! – передразнивает Фёдора. – Вот был бы занят «множко», то не было бы времени на всякие штучки.
– Да, ещё, Алла Петровна, – Федя игнорирует реплику, – завтра я дома после девяти. У меня вечером тренировка… Всё… Хорошо… До свидания.
Вешает трубку и, пожав плечами, ни на кого не глядя, качает головой. Реагировать на всякие глупости явно недосуг: Федю ждёт работа и возможно ещё какие-нибудь открытия, эффектные находки.
В комнате воцаряется гнетущее молчание. Сотрудники время от времени искоса поглядывают на Федю в опасливом ожидании новых сюрпризов, способных любому из них подпортить кровь. Сам же Фёдор никогда не беспокоится, что кто-то возьмётся доказывать его профнепригодность или неодарённость как научного сотрудника. Об учёном и речи нет. Но когда преднамеренно искажают его фамилию, Бакланов атакует мощно и беспощадно.
Глава 5. Почему – Баклан Свекольный?
1984–1985 гг.
Баклан – это птица. Есть морской баклан отряда пеликановых, есть и болотный, много их да разных. Только сейчас не о пернатых.
На блатном жаргоне баклан всегда означало «пустой человек», «хулиган». То есть не вор, не авторитет и даже не мужик, а так себе, что-то шалопайское. Знал ли об этом Фёдор или понятия не имел, но с детства терпеть не мог, когда его обзывали Бакланом. Только не в каждый роток впихнёшь колок. И в садике, и в школе «дразнилкины» доставали неслабо. Получали, конечно, по морде. Перепадало и Феде за то, что обижался.
В университете с ним на курсе учились два тёзки. Различали их по производным от фамилий. Общественно активный Федя Комиссаржевский звался Комиссаром. Скрытного Федю Фармазонова, разумеется, нарекли Фармазоном. С Баклановым тоже не мудрили.
Обижался Федя до тех пор, пока на втором курсе Баклан не дополнился Свекольным. И не потому, что среди студентов появился его однофамилец, а так сложился день один, после которого Баклан Свекольный звучало настолько часто, что настоящее имя и вспоминалось-то не сразу. Федя даже обрадовался новому «погонялу» и шутил, что если надумает писать книги, то псевдоним уже готов. А что? Ведь миру известен не Алексей Пешков, а Максим Горький. Почему тогда не Баклан Свекольный?