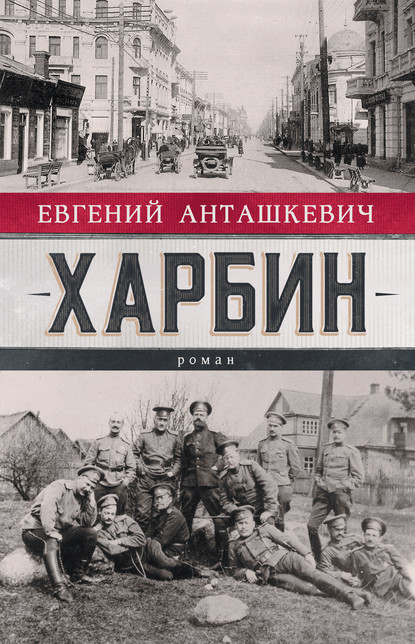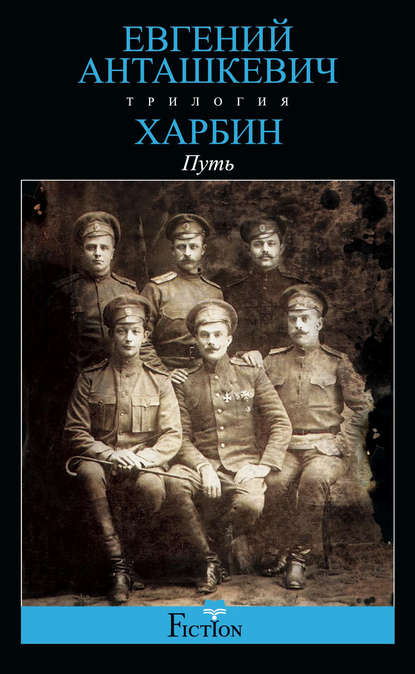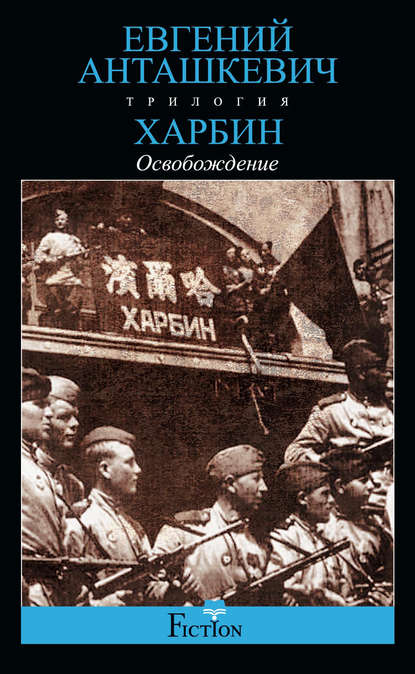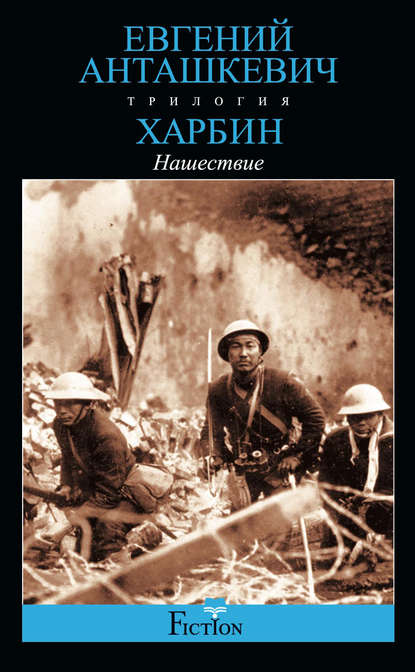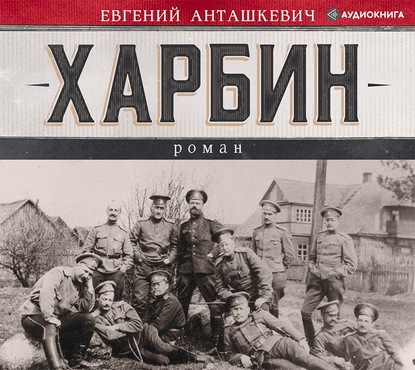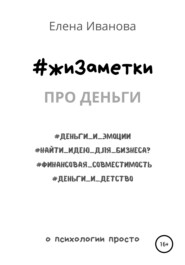Текст
Текст Харбин
Полная версия
- О книге
- Читать
– Петрович, а Петрович, просыпайся, день уже, всё счастье своё проспишь.
Александр Петрович с трудом открыл глаза. Рядом, будто бы и не было ночи и сна, в тех же сумерках сидел Мишка. На табурете стояла лохань и лежало чистое полотенце.
Александр Петрович пошевелил руками и даже попробовал приподняться.
– На-ка, вот тебе вода ключевая и убрус, обтерись, а я тебе потомака спину обтеру, – сказал Мишка и вышел.
Александр Петрович почувствовал в себе силу, и ему захотелось, чтобы в комнате было побольше света.
– Михаил! – попросил он. – Можно полость отдёрнуть?
– А как же, ваше благородие, энто с нашим удовольствием. Свет денной – любой твари родной. Так-то!
Мишка встал, снял с деревянных кольев медвежью шкуру, и в комнате стало немного светлее.
«Ну что ж, хоть так!»
Александр Петрович смочил полотенце, обтёр им лицо, грудь и почувствовал свежесть. Мишка снова зашёл, повернул его на бок и намазал чем-то пахучим спину.
– Щас вашему благородию завтрак будет.
После завтрака, на который Мишка принёс ту же пресную безвкусную жижу, снова захотелось спать, но Мишка сказал:
– Не-е, Лександра Петрович, щас тебе спать негоже, щас я тебе лечить буду. Видать, огневица твоя грудная не вовсе прошла, ты ночью так кашлем заходился, я думал – захлебнёсси ненароком. Подставь-ка ладонь! – Мишка из-под лежака вытащил глиняный горшочек, снял с него тряпицу и подковырнул заскорузлым чёрным ногтем полупрозрачный янтарный жир. – Да грудь натри.
От жира исходил удушливый запах, Александр Петрович поморщился, но откинул полость и задрал под подбородок рубаху.
– Не морщись и нос не вороти, энто тебе не пирьмидонт с перьмезантом, энто жир барсучий, по-особому приготовленный, втирай-ка вот!
«Пирьмидонт с перьмезантом» рассмешил Александра Петровича, и он закашлялся.
– Да ты не усмехайся, а то вовсе задохнёшься, вон кака кашель тебя бьёт.
Александр Петрович почувствовал, что сил за ночь у него прибавилось.
– Михаил! – спросил он прерывающимся голосом, втирая жирную массу. – Ты говорил, что живёшь в деревне, дочь там у тебя и внучки, что поп ваш к красным убежал… – Александр Петрович оторвал взгляд от груди и посмотрел на Мишку.
– Батюшка! – поправил тот. – Так и правду баешь. – Сидя на табурете, Мишка развёл руками. – Так и есть! И дочка, и внучки…
– А отчего же ты не с ними?
Мишка молчал и поглаживал бороду, когда его ладони доходили до самого низа, он прихватывал пальцами конец бороды и слегка дергал её, как бы испытывая, крепко ли она к нему приросла, и смотрел в одну точку. Александр Петрович глядел на него и понимал, что, наверное, сам того не желая, он затронул чувства этого человека, спасшего ему жизнь, но он не просил Мишку его спасать и не просил ни о чём рассказывать. Он потянулся рукою к Мишкиному локтю, тот вздрогнул, огладил колени своими грубыми, как коренья старого дерева, руками и внимательно посмотрел на Александра Петровича.
– Отказало! – коротко сказал он и резко ударил себя по коленям. – Отказало мне обчество в сожительстве!
– А что так? – Александру Петровичу захотелось что-то выяснить об этом человеке, во власти которого он оказался, хотя каково это будет – лезть к нему в душу. – Но если тебе неудобно, Михаил, ты не говори, это твоё право.
– Отчего же, ваше благородие! Отчего же! – Он ненадолго задумался. – Травники мы. По всей тайге все травы знаем. Ишо дед мой копал, и сушил, и толок. И всё по добру было! И коренья, и травы, и от зверя чего брали, и желчь, и ишо чего много. Батька научился у деда, тот у бурятов, а я у батьки, потому святой Пантелеймон и есть наш заступник и учитель!
– И так было много лет?
– Много, ваше благородие, много. Я ж говорю, и дед, и батя…
– Так отчего?..
– Отчего да отчего?..
Александру Петровичу показалось, что в глазах Мишки блеснули слёзы.
– Позвали сход и указали, мол, иди на зимовье… и весь сказ…
Александру Петровичу стало интересно.
– Вот прямо так и указали?
– А как ишо? Прямо так и указали!
– А кто был на сходе главный?
Мишка резко поднялся с табурета и в полшага вышел в соседнюю комнату, там он долго гремел, шуршал, что-то с деревянным стуком падало у него на пол, и вдруг он почти крикнул, только крик получился сиплый, сдавленным горлом.
– Батюшка! – Он откашлянул и тихо добавил: – Батюшка сказывал обчеству, что рядом со святой церквой не должно быть знахарей, что с чёртом они водятся! – И опять у него что-то загремело.
Как ни болела у Александра Петровича грудь, он опрокинулся лицом в мягкую кулёму, которая лежала у него под головой, и расхохотался: «Вот так дела! Батюшка выгнал лекаря из деревни, а сам подался к красным! Новомодный какой-то батюшка!»
Александр Петрович заставил себя не смеяться и прислушался – Мишка возился за стенкой.
«Слава богу, не услышал!»
– Михаил! – уже успокоившись, вытерев слёзы и отсморкавшись в оставленное хозяином полотенце, позвал он.
– Чё тебе, Петрович?
– А позволь я тебя ещё спрошу?
– Спроси, чё не спросить?
Александру Петровичу показалось, что он услышал в голосе Мишки боль и горечь.
– Михаил, как же так получается? Батюшка тебя выгнал, сам к красным убежал, а что сейчас твоё общество? Не разрешает тебе вернуться? К дочке и внучкам – батюшки-то нет!
– Батюшки нет, а обчество опасается!
Мишка сказал это и появился на пороге с дымящейся миской в руках, поставил её на табурет, вышел и вернулся со склянкой и двумя дешевенькими городскими лафитниками мутного стекла.
– На-к вот, шулю похлебай, тута чисто мясо, вода да соль, ну и корешки каки да травки, как без них! Да и… – Мишка хрипнул в кулак, – за оздоровление твоё!
Он перекрестился на образ, поклонился и зашевелил губами, и Александр Петрович услышал в тишине Мишкин шепот:
– Старотерпиче святый и целебниче Пантелеймоне, моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
В комнате пахло варёным мясом и душистыми травами.
Александр Петрович перекрестился одновременно с Мишкой, тот покосился на него и сказал:
– А вроде, Петрович, не по-нашему ты крестисся!
Александру Петровичу не хотелось объясняться, он почти перестал чувствовать слабость, тревогу, боль в груди, и только сказал:
– Народы, Михаил, разные, а Бог один, как ни крестись, – и сам удивился тому, что его слова были похожи на речь батюшки из какого-нибудь сельского прихода.
Мишка вздохнул, присел на лежак, подал ложку с парящим бульоном и разлил по лафитникам жидкость оттенка светлой сирени, от которой пахло спиртом.
– Особое снадобье, тоже от бурятов научились – зюбриный зародыш в водке настоянный, много сил даёт.
Александр Петрович с удивлением посмотрел на Мишку.
– Матку бьют, када она брюхатая ходит!
Александр Петрович поднял лафитник на просвет, посмотрел на мутную жидкость и принюхался.
– Не нюхай, пей единым духом, да вот медку зачерпни, и я с тобой заодно, покеда пост Великий не начален!
У жидкости был неприятный привкус сырого мяса, мёд быстро его перебил, и в груди стало тепло.
– Свой мёд?
– А чей? Бона весь омшаник бортью забит, под самый охлу-пень. – Мишка собрал всё на табурет и тяжело вздохнул. – Ты спрашиваешь! Да разве б я ушёл, от своих-то? Деревня у нас больно хороша, в сколькй верстах всего-то от Байкала-батюшки, и река, и тайга. Да тольки обчество мне отказало в сожительстве. Потому я здеся и обретаюсь, а дочь и внучки тама остались, чего имя в тайге делать? – Он помолчал. – Я их проведал уже и гостинцев свёз, были очень даже радые. Када снегом тропки не заваливает, наезжаю к ним, кабана привезу али сохатины, снадобий каких, а у них хлебушкой раздобудусь. Так и живём. – Он тоже выпил и зачерпнул мёду. – А ить, Петрович! Мужики-то у нас, даже те, хто с германской повертались, и не белые и не красные… один тольки ирод нашёлся…
– Батюшка?
– Дак какой он таперя батюшка? Так, прозвание одно. А мужики все при хозяйстве, зверя бьют, рыбу ловят, лес валят, мёд качают, на лужках да на таёжных полянах сено косют, скотина опять же! Сытно живут. Тока работай, горя знать не будишь. Не то что ваши, росейские, голь перекатная…
– Помню, Михаил! Ты мне рассказывал, как у вас егерь гостил. – Александр Петрович сел и попытался спустить вниз ноги.
– Дай подсоблю, тока покуль ходить не пытайся, упадёшь ненароком. – Он продолжал: – Живи себе и живи, а тута на тебе, война германская, революция… – Он вздонул. – Чё таперя будит, как жить?
– Получается, что общество совсем с тобой рассталось?
– Не, не рассталось, сюды бегают, када хворь кака приспичит, тольки тайно. Да как энту тайну сохранишь? Все знают.
– А обратно не зовут!
– Не, не зовут.
– Отчего?
Мишка подбоченился:
– А хто знает, кака власть придёт? А ежели снова энтот поп…
– Батюшка! – в шутку поправил Александр Петрович.
Мишка исподлобья посмотрел на него.
– Извини, Михаил!
– …так я и говорю! А што ежели энтот… батюшка снова в деревню пожалует, да с новой властью в обнимку, об чём тада мужикам кумекать? Поздно будет!
Мишка взялся руками за табурет, намереваясь вынести его из комнаты.
– А новости откуда узнаёшь? – спросил Александр Петрович.
– Када как! – Он поставил табурет и снова присел. – Када сам до станции доеду, за порохом али ишо за чем, када рыбаки с Ангары да с Иркутска придут али охотники из Верхнеудинска. С тобой вона скока вёрст пробежали, опять новости! – Он тяжело поднялся. – А так что ж? Все жить хотят! Так Христос завещал: всем божьим тварям надобно давать жить!
Глава 10
Прошло около двух недель, как Александр Петрович очнулся и обнаружил себя на Мишкином зимовье. Он понемногу поправлялся и уже сам выходил во двор, окреп; его отпустил кашель, только после тифа глаза видели ещё плохо.
Стоял погожий день, солнце поднималось всё выше и томило снег на покатой крыше омшаника.
«Вот тебе и Сибирь-матушка! Мороз даже днём, и лёд на Байкале в сажень, а голову…» Александр Петрович почувствовал затылком и лопатками, как припекает через толстый мех шапки и кожуха. Он воткнул в колоду топор, положил рядом оселок, распрямился, снял с руки суконную варегу, заткнул её за пояс и полез под полу кожуха за табаком.
Всё это время, пока он выздоравливал, он думал о том, что оказался в тупике, в глухом медвежьем углу, из которого надо было как-то выбираться, и помочь ему в этом мог только Мишка, зачем-то спасший ему жизнь. Мог и помешать.
– Угостишь, Петрович? – услышал он Мишкин голос.
Александр Петрович усмехнулся.
– Почему же не угостить, – крикнул он в ответ, – табак твой! – Он не спеша достал кисет, встал и медленно пошёл к тыну, отделявшему омшаник от огорода и заимки. Мишка тоже бросил свою работу – новую оглоблю, которую тесал топором, и также не спеша двинулся навстречу.
«Сближаемся, как на дуэли, – невольно подумал Александр Петрович, – только команду услышать «Стреляйте!», и будет как Пушкин и Дантес на Чёрной речке».
Пролетавшая высоко над ними чёрная ворона видела, как с двух сторон навстречу друг другу почти с равного расстояния шли два человека, разделённые чёрной линией тына; они шли медленно, отбрасывая на белый снег синие тени. Для дуэлянтов с Чёрной речки они были одеты необычно: в старые лисьи малахаи, овчинные тулупы и подшитые толстые чёрные валенки; у одного и у другого из-за пояса торчало по варёге.
Мишка подошёл к забору первым.
«Его выстрел, – подумал Адельберг. – И я убит!»
– Чур, моя газетка! – сказал Мишка.
«Ну если это и есть цена выстрела!..»
Мишка только вчера вечером вернулся из Мысовой; по дороге треснула одна оглобля на его санях, и сейчас он тесал новую. Он приехал к ночи, сразу повалился спать, и Александр Петрович не узнал никаких новостей, которые Мишка обычно привозил, он только буркнул, что «всё с утрева!».
– Ну вот, Петрович, – сказал Мишка, держа в руке и разглядывая наполовину обтёсанную оглоблю. – Не серчай, что вчера ничё тебе не сказал, больно уставший был. – Он прислонил её к тыну. – А новость вот кака – видать, хана твоим! Чё дальше делать-то? – то ли сказал, то ли спросил он и обтёр руки о кожух.
Александру Петровичу с самого утра не терпелось узнать, что за новости привёз Мишка, да и сказано было, что «про твоих», однако он его уже хорошо изучил и не торопился: знал, что сибиряки торопливости не уважают. Мишка, до этого молчавший всё утро и, как назло, взявшийся вместо разговора о новостях тесать оглоблю, сейчас неторопливо доставал из-за пазухи сложенную в несколько раз половинку листа, судя по цвету, свежей газеты и стал отрывать от неё четвертушку, её разорвал ещё пополам и залез в поданный Александром Петровичем расшитый бисером кисет, тоже Мишкин, как и табак. Александр Петрович оценил размер оторванной закрутки, понял, что она будет большая, а значит, и разговор, наверное, будет длинный, и краем глаза заметил Мишкин внимательный прищур.
«Ну-ка, ну-ка, – подумал он, – наверное, хочет, чтобы я прочитал этот клочок! Нет уж, не буду я при тебе устраивать суету! Если взялся говорить про новости – говори!»
Он взял протянутый ему листок и, как тот был «вверх ногами», стал заворачивать его вокруг указательного пальца, делая тонкий и длинный конус. Завернув бумагу, он не торопясь провёл языком по краю листка, заклеил его, повесил готовый конус тонким хвостиком себе на губу и из кисета насыпал в ладонь табаку. Затянул шнурок, спрятал кисет под полу и снял завёртку с губы, согнул её на половине, на манер курительной трубки, и с ладони, как из кузовка, стал зачерпывать табак. Последние крошки, пошевеливая пальцами, ссыпал внутрь, не проронив при этом ни одной на снег, верхние края козьей ножки скрутил в жгуток, передохнул и взялся за кресало.
– Ловок ты, Петрович! Ай ловок! Глянь, ни одной крошки не сронил и запалил-то как ладно.
Александр Петрович прикурил, затянулся, поднял голову и пустил тонкую струйку густого желтоватого дыма поверх Мишкиной головы, затянулся ещё раз и выпустил дым кольцами.
Мишка смотрел из-под мохнатых, соединившихся с мехом малахая бровей, как кольца улетали и медленно, кривясь и распадаясь, растворялись в воздухе.
– Да-а, Петрович! Мастак ты, ничё не скажешь! Сколько смотрю, да дивья дивлюсь. У нас объездчик был, злючий гад, но кольцы изо рта выкручивать тоже мастер был великий, вроде тебя!
Александр Петрович знал, что эта городская манера пускать кольца табачного дыма очень нравилась Мишке. Тот затянулся, но сам колец пускать не стал, чтобы не опозориться.
– Какой «конец»? Какие «твои»? Ты о чём, Михаил?
Мишка на секунду задумался.
– Ты газетку-то завернул, а не прочёл, а газетка-т иркутская! Тама всё и прописано.
– О чём?
Мишка помолчал и раздумчиво продолжил:
– В Мысовую я бегал, на толковище был, у пристани. Тама Кешку видал, знакомца с того берега, из Листвянки, эт который в тебя стрелил, когда ты от Иркутска по льду шёл.
Александр Петрович ухмыльнулся.
– Большим начальником заделался Кешка в ихней Чеке, он мне и рассказал. – И Мишка поведал свой разговор с Кешкой в лицах. – «Слыхал, – говорит, – новость?..» – и эдаким манером закрутку заслюнявил, а табачок, заметь, Петрович, мой! «…Беляков, – говорит, – под Читой зажали, что твою пробку в узком горле!..» – «И чё?» Эт, значит, я его спрашиваю! Ну прикурил он, раздымился, а я его: «А дальше чё?» – «Чё! Чё!» – говорит. – Расчёкался, гуранская твоя душа! Живёшь как пчела в колоде, а мы там…» – «А чё вы там?» – спрашиваю. «Опять чё!» Эт, значит, сызнова он. «Знаешь, скока, – говорит, – белой сволочи тама в Чите и в округе? Всех выловим и укорот дадим! В расход то есть! Вот чё!»
Александр Петрович слушал Мишку и мысленно представлял себе, где находится Чита и где через неё проходит железная дорога.
«А ведь и правда, если красные займут позицию с юга и отрежут от Маньчжурии, получится похоже на бутылочное горлышко, а мы в нём как пробка!..»
– Надоела энта война! – сказал Мишка, затягиваясь и выпуская густой самосадный дым. – Злобы-то, лиха да горя людского скока!
– Да уж! – глядя на снег, тихо ответил Александр Петрович.
Солнце было в зените и до рези обжигало глаза ярким светом, отражённым от блистающего снега.
Они стояли и пыхали дымом.
«…И дадут укорот!» – подумал Александр Петрович.
Мишка ногтем сбросил огонёк со своей козьей ножки, плюнул на неё, примял большим пальцем чёрный обугленный табак и глянул из-под козырька ладони на солнце:
– Но тока и энто не всё!
Александр Петрович удивлённо посмотрел на него.
– Исть будем, побалакаем и поглядим, как дальше жить. – Он помолчал и, уже повернувшись идти дотёсывать оглоблю, сказал: – А с Кешкой батюшка был – наш, да тольки мы разминулися.
Новость о ситуации под Читой была нехорошая, если красные одолеют, то граница с Маньчжурией окажется запертой. Александр Петрович отошёл от изгороди, вышиб из колоды топор, засунул его за пояс и пошёл к омшанику; дверь омшаника была настежь распахнута, и вход над ярким белым снегом зиял чёрным провалом.
Александр Петрович глянул в него: «Хм, как тогда!»
Он остановился – этот зияющий чернотой провал напомнил ему маленькую железнодорожную станцию к востоку от Новониколаевска, на которую он попал в начале девятнадцатого года; от станции на юг уходила бесконечная Щегловская тайга до самого Алтая и Монголии.
В тот день из штаба находившейся в Новониколаевске 1-й армии генерала Пепеляева Адельберг с телеграфной командой и отделением охраны приехал на нескольких дрезинах на затерянную в тайге станцию. Вчера на неё напали партизаны и нарушили связь.
Станцию охраняли два десятка уральцев, но, когда Адельберг приехал, они лежали в ряд недалеко от насыпи в одном исподнем. Их трупы партизаны сложили на снег и облили водой. Стоял лютый мороз, вода замёрзла, и они лежали в прозрачном панцире и глядели в небо ледяными глазами. Тут же, напротив деревянного зданьица станции, стоял вагон-теплушка, и, когда телеграфисты оттолкали примёрзшую дверь, они увидели красных партизан, которые были развешаны по стенам вагона с содранной лоскутьями кожей, поэтому они действительно казались красными. На их освежёванных телах были хорошо видны мышцы и сухожилия, как в анатомическом атласе, и под каждым горкой стояла замёрзшая кровь. Партизан было десять, а между ними висел одиннадцатый – распятый, как Христос, на толстых кованых гвоздях. С него кожу не содрали, только на груди она была вырезана от соска до соска в виде большой красной звезды. Сама звезда лежала в середине вагона на полу, а в углу большой кучей – кожа остальных.
В здании станции мертвецки пьяными вповалку спали невесть откуда взявшиеся здесь забайкальцы атамана Семёнова, расправившиеся с этими партизанами. Их было около двадцати, не спал только один подхорунжий, он клевал носом около пулемёта. Рядом с ним на корточках сидел полубездыханный пожилой начальник станции и молча дрожал в истерике, потому что всё произошло на его глазах. Увидев это, Адельберг поймал себя на мысли, что ему хочется дать команду расстрелять пьяных забайкальцев, но он понял, что это и есть та самая бесконечная бойня, и тогда он позвал старшего команды телеграфистов. Тот, с круглыми от ужаса глазами, враскоряку подбежал на разъезжавшихся по обледенелому снегу ногах.
– Слушаюсь, ваше высокоблагородие!!! – У него тряслась челюсть и дрожали руки. – Что прикажете, господин полковник?
– Успокойтесь, Кузьма Ильич, – сказал он прапорщику, хотя от увиденного его самого била дрожь. – Вы не первый раз видите мёртвых людей. Скажите, сколько времени потребуется вашей команде на выполнение ремонтных работ?
– Господин полковник! – У старшего телеграфиста мысли разбегались, и он не мог сосредоточиться. – Извините меня великодушно, но я ещё такого зверства, господи помилуй, не видал! Дело в том, – продолжая дрожать как осиновый лист, он пытался что-то доложить, – что пока неизвестно, сколько надо перетянуть проводов, а из-за этого кошмара я не успел посмотреть, что с телеграфным аппаратом.
Адельберг слушал прапорщика и, сопротивляясь собственным мыслям, думал о том, что ему сейчас придется отдать неожиданную команду – собрать трупы и похоронить их. Адельбергу почему-то казалось, что эта команда должна будет сразить прапорщика Тельнова наповал, он понимал, что после того, как линия связи будет исправлена, он вполне мог связаться со штабом, доложить о ситуации, попросить прислать похоронную команду и больше никогда об этом не вспоминать. Но эти тридцать убиенных… Тридцать один!
Адельберг посмотрел на хронометр, было пять часов вечера, через час стемнеет.
«Да, – подумал он, – они смёрзлись так, что целехонькими пролежат до весны. Казаков не поднять, этих, прости господи, пьяных. Тех-то уже и без того не поднять, и мои сейчас тоже никаких проводов уже не перетянут, так что…»
Он оторвал взгляд от хронометра и увидел, что прапорщик Тельнов ещё рядом, и, похоже, немного успокоился.
– Вот что, уважаемый Кузьма Ильич! Отправьте несколько человек по линии – пусть посмотрят, сколько надо менять проводов, да пусть они же на дрезине в штаб и отправляются, чтобы завтра вернуться со всем необходимым. Так что сегодня ремонтных работ как таковых я не предвижу. А поэтому, Кузьма Ильич, – тут Адельберг, неожиданно для себя и совсем неожиданно для прапорщика, положил ему руку на плечо, – остальных соберите в здании станции, приведите в порядок смотрителя, без него нам не обойтись, и… надо этих всех похоронить.
Услышав это, Тельнов – уже пожилой человек, призванный в 1916 году на германскую из последнего призывного возраста, – стоял ни жив ни мёртв! Он видел много убитых, но вряд ли когда-то и от кого-то получал такие приказы. И как его выполнить? Как их хоронить? Всех вместе? Для этого нужно откопать большую яму, и тогда в одной яме окажутся те, кто друг друга убивал и перед смертью смотрел в глаза; если раздельно, то тогда у его людей просто не хватит сил долбить эту насмерть промёрзшую землю.
Адельберг думал то же, с холодным и спокойным ужасом: сам он уже как бы смирился с мыслью о необходимости этого, но понимал, что ни ему и никому из тех, кто находится с ним здесь, это не нужно, и одновременно понимал, что это – нужно.
Он продолжал держать Тельнова за плечо и вдруг почувствовал, как тот оседает; ноги Тельнова обмякли, и он тихо опустился на снег.
– Фельдфебель! – крикнул Адельберг старшему отделения охраны.
Тот выскочил из здания станции.
– Приведите прапорщика в чувство и постройте людей! Да! Растолкайте подхорунжего! Даю вам на всё пять минут!
Увеличенное красное солнце садилось за кромку леса за вагоном-теплушкой, и его дверной проём зиял чёрным провалом. Внутри вагона в контрастном свете заката ничего не было видно, никаких тел, чернота их как бы пожрала и сделала неразличимыми.
«Чёрт побери! Всех бы расстрелял, всех, кто в этом участвовал, – думал он с яростью. – Всех к чёртовой матери!» И тут же закричал:
– Стройсь, сволочи! Тельнов! Ш-што вы рассопливились, как девица в анатомическом театре? Приведите ко мне станционного начальника!
По команде Тельнова, еле-еле ворочавшего языком, два солдата, подхватив винтовки, побежали в здание станции, через секунду они уже держали под руки и вели станционного начальника.
– Раздайте моим людям ломы и лопаты, – снова закричал Адельберг, – и покажите им, где угольный склад! Трупы будете складывать там! Вы меня поняли? Выполняйте! Фельдфебель, проследите!
Адельбергу показалось, что он себя не слышит, но, наверное, он кричал таким страшным голосом, что все его команды выполнялись мгновенно.
Через минуту он уже сам долбил лёд между двумя крайними казаками.
Лом вышибал брызги, холодно таявшие на лбу, щеках и оголённых запястьях. Разгорячённый работой, он уже снял портупею с саблей, расстегнул ворот шинели, снял было и папаху, но фельдфебель посмотрел на него с укоризной, и он понял, что на морозе за тридцать придётся попотеть.
Первого казака он обколотил быстро, двое солдат подняли негнущееся тело и оттащили в холодный угольный склад. Второй – старый бородатый казак – был не положен, а брошен на третьего, и выдалбливать его надо было осторожно. Адельберг почему-то заботился о них, как о живых, поэтому старался ударить ломом так, чтобы не отбить руку, не пробить голову или грудь. Голова старого казака была завалена набок, его огромная борода примерзла к снегу, и её пришлось бы выдалбливать отдельно.
– Принесите кипятку, – крикнул он кому-то и краем глаза увидел, как Тельнов бросил свой инструмент и быстро, не по возрасту, побежал в здание станции.
Адельберг бросил лом, достал портсигар, вытащил папиросу, выбил мундштук и чиркнул зажигалкой, сбоку к нему подошёл фельдфебель и молча пристроился по стойке «смирно».
– Объявите людям, пусть передохнут, – распорядился Адельберг, повернулся к фельдфебелю, протянул ему портсигар и спросил: – Как подхорунжий?