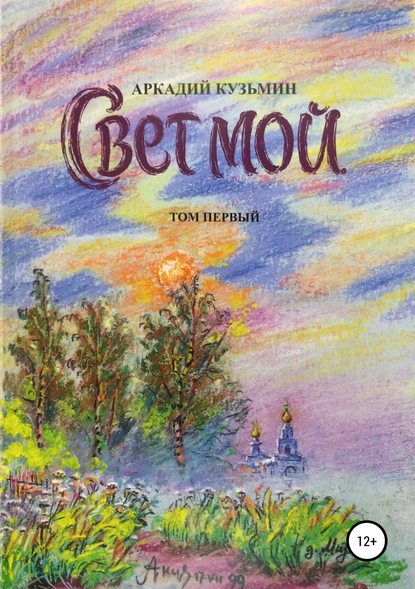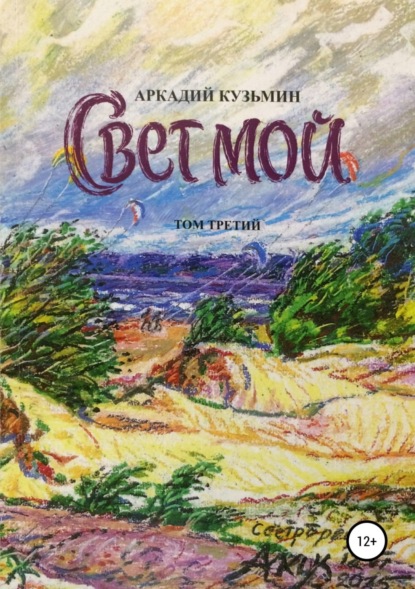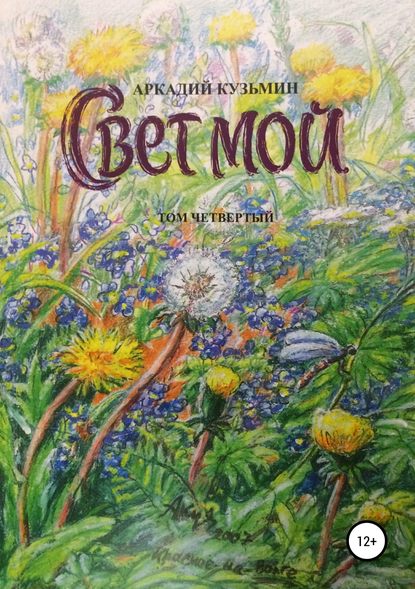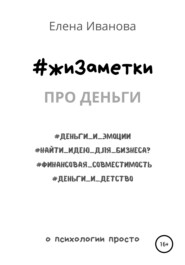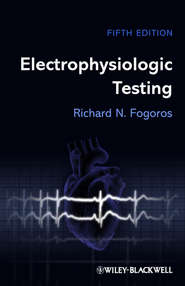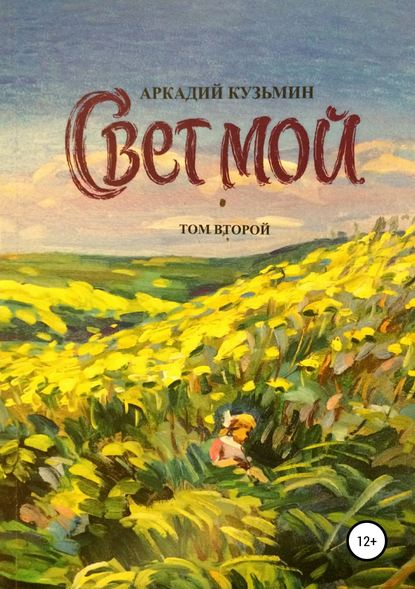 ТекстПолная версия
ТекстПолная версия Свет мой. Том 2
Полная версия
- О книге
- Читать
X
В своей земляной – под сугробами – берлоге с норами Кашины вдевятером вместе с Дуней и Славой прожили еще целых полгода, так же как окрест и все семьи, ютящиеся в таких же землянках, – прожили, перенося новые всевозможные лишения и муки, вплоть до сего февральского дня, в каковой близ их берлоги вновь зачернела на снегу фигура краснокожего аспида Силина, главного полицая. Он поигрывал в руках крученой плеточкой.
Что, какую же корысть снова он принес с собой?
Слышно Силин между тем все выискивал, вынюхивал, кто еще в народе провинился чем-нибудь перед оккупантами; он старался скорыми расправами везде прививать любовь к законному – железному – нацистскому порядку. Обирать-то уже было нечего – провизии не осталось ни у кого. Но ведь на ум порченый, пропитанный ядом предательства, всякое поганое взбредало без задержки. Он нe кривлялся, не стоял нa одной ноге, а сразу на обеих; он любил еще прикинуться милягой, доброхотом, попечителем мирян.
Злодей без видимой причины, ради профилактики, заглядывал и к Кашиным – случая не пропускал. Не было еще такого.
И вот, естественно, вызванная к Силину из своей землянки Анна, саданувшись на ступеньках скользких, неудобных, прямо вылетела из нее наверх. Душа у нее тотчас ушла в пятки. Не одетая, в накинутом на голове платке, она, как наседка, ринулась к нему, не мешкая, чтобы воздействовать на него, проклятого супостата, могущего отнять у нее детей, – воздействовать беспощадно-обличительным словом либо, если понадобится, ценой собственной жизни. Чувство материнства у нее сейчас было сильней, значительней всех существующих на свете чувств и неразрывно сливалось с ними.
Поджидая на протоптанной в снегу дорожке, Силин нервно плеточкой поигрывал – завсегда, видать, чесались руки у него, чтобы полоснуть кого-нибудь наотмашь.
– Анна, завтра велено собрать всех парней от четырнадцати лет, – буркнул Силин бычливо. – Ты того.... Валерку подготовь. К семи часам утра. И сама явись. Со старшей девкой. Слышишь?! Все! Смотри!..
Оглушило Анну это сообщение. Рассудок разом замутился у нее. Она поняла не все.
– Kак?! Зачем Валерия?!.. Куда?.. Это что ж, помилуйте?..
– Парней туда отправляют. – Махнул он плеточкой назад, за малиновые голые кусты вишенника, дрожавшие в заносах, – куда испокон веков закатывалось солнце красное. – В Германию, должно. – Но был словно бы смущен немного. Прежде же за ним этого не замечалось. Не в его обычае. С чего б?..
«Значит, так оно – и впрямь постигло нас, не понаслышке как-нибудь: да еще разъединят фашисты нас друг от друга, будто скот, говорили люди; схватят и по партиям рассортируют всех отдельно – парней, девушек и пожилых с малыми ребятками и стариками, и погонят в неизвестное, да, да», – пронеслось в ее сознании, и она взмолилась, умоляла:
– Вы побойтесь бога, Николай Фомич! Знаете, что все мы – в вашей полной власти… Ведь мы вместе ходим по одной земле – неделимой… Малец пропадет, отлученный от семьи. Сломается…
– Ну, а что же я могу; посуди, Анна, сама: приказ такой. Германский. – Силин головою вертанул, словно бы освобождаясь красной налившейся шеей от тесного воротника тужурки: по-видимому, ему самому претил рассуждающе-убеждающий тон, на какой он опять опустился в разговоре с той, с которой мог он сделать что угодно. – Ты еще и недовольна, мать моя, что я пришел, предупредил тебя заранее! Вот народец пошел!.. Не хухры-мухры…
Сглотнув накатившиеся слезы, Анна, хотя видела определенно, что с несносным языком своим въелась у него в печенках, все же продолжала вразумлять – норовила уж докончить поскорее то, что начала:
– Разве вы не весь сок выжали из нас, задавленных, забитых, обнищалых? У тебя у самого ведь тоже есть семейство: дети кровные, жена хворая, безгласая. Так рассуди по ним ответственно, по-мужски, и снизойди до нас, до наших мольб, пожалуйста!.. – Она и просительно его клянула с целью устыдить, как-нибудь разжалобив; и незаметно для себя в стычке с ним опять с позабывчивостью перекинулась на «ты» – хотела, верно, еще резче выговорить ему все, что накопилось, чтобы до него теперь хоть что-нибудь дошло…
Однако от ее непозволительного напоминания, задевшего за живое, он лишь поморщился, ровно хватанул что кислое, пригоршню большущую, – для него ее острые слова предполагали лишь одно – неоспоримое установление его неискупаемой вины и перед родными также, в доме собственном. Зачем далеко ходить? Не хватало еще этого! Его судили, осуждали местные, тихони даже, те, которых изводил он методично, наслаждаясь их смертельным замешательством! В сердцах повторив, что он ничем сейчас помочь не может – против приказания комендатуры не попрет (будто раньше мог, хотел и смел), он повернулся, да зашлепал прочь. И все.
Анне, и раздетой, стало жарко. Несмотря на то, что февраль колючие усы свои топырил.
Потом уж она про себя отметила неожиданную в Силине смену настроения, что-то означавшую, возможно, – хорошее или плохое, и решила только, что хорошего-то все равно не может быть от фашиствующего немца, пока тот, подлый, на чужом хребте сидит, людьми помыкает. Вместе со своими прихлебателями. Так-то.
Каково-то матери. Отрежь любой палец – больно. Так и это.
Весь остаток этого суетного дня и еще полночи, далеко за полночь, Анна лихорадочно, горя, убиваясь, плача, готовила Валерию все необходимое, чем могла она его снабдить на прощание, чтоб ему, мальчишке, пребывающему где-то там целиком на зимней стуже (в качестве дармовой рабочей силы), совсем одному, вне пределов родительского дома, без родных и близких, без надежного материнского присмотра и заботливой ласки, было тепло, ладно, – готовила покрепче, потеплее одежонку, белье, обувину и кой-что из съестного на дорожку, из тех береженых ограниченных запасов, какие берегла она, таская под бомбежками и обстрелами в узлах, на самый-самый черный день и также шила попрочнее для него заплечный вещевой мешок с лямками.
Все, оказывается, нужно было приготовить для Валерия. Все – предусмотреть. Начиная от иголки с ниткой. Вроде бы пустяшное. Но не зряшное. Только где что взять теперь? На полочке? Положенное кем-то? На какой? Какой и в помине вовсе нет?
Это уж вторые, значит, проводы заладила – назначила Анне война – тягостно-тяжелые и оскорбительно ужасные: было бы куда ей объяснимее-понятнее (и менее досаднее), если бы сынок ее, еще робкий паренек, самостоятельно еще не ступивший никуда и шагу, уходил, как водится, на защиту своего отечества, а то против воли и желания его силком, в приказном порядке, уводил с собою неприятель. Вот так, стало быть, она вырастила и себе и Родине помогу…
Ее и поэтому, может, трясло. Мелкой дрожью. Снова в ней какой-то нерв – наследственное (от отца) – взвинтился. И коробка черепная вся yжe забилась и загромоздилась чем-то деревянным столь, что с расстроенными мыслями в тех дебрях никуда не провернуться и ни протолкнуться было, точь-в-точь как внутри обжитой землянки, точно еще больше сузившейся внезапно. Кошмар этот длился, длился, не кончаясь и не утихая; все перед глазами в скачущую и размытую линию сливалось – даже лица все, знакомые, попадавшие в поле ее зрения.
В неразгибку почти ползая на коленях над обношенным, нищенским тряпьем из которого она пыталась выбрать что получше, в позабывчивости откладывая да перекладывая то одно, то другое, и внаклонку еще после танцуя у растопленной невысокой печки, не помещавшейся при кладке в высоту, Анна уже до того дохлопоталась, что в полном изнеможении откинулась на свою дощатую, жесткую постель и тотчас затихла так – отключилась будто. Она потом не имела абсолютно никакого представления о том, спала ли она сколько-нибудь после этого, часок какой, или только полежала в глубоком забытьи, в одном положении, с замертвевшим взглядом, которым даже и не силилась (по привычке прежних томительных ночей, проведенных здесь) ощупывать над собой давящую густую темь. Но почему-то больше, чем обыкновенно, почему-то обостренней этой ночью она слышала и пристаныванье самых маленьких во сне (а некогда она считала, что такое свойственно лишь натерпевшимся всех их большим, которых донимает тем, что грезится, действительность), и худое, заутробное какое-то завыванье непогоды в печной трубе, и забавно-невинное мышиное попискивание (кошка беспробудно грелась на печи). Анна, напрягаясь, проверяла, проверяла себя мысленно, не забыла ль она еще что-то сделать для сыночка, положить ему в мешок. И в испуге замирала временами, в жар опять ее кидало – оттого, что ей казалось, будто она чего-то в этом отношении недоглядела, недоделала, как нужно; помнить сразу помнила, что надо, а что именно, забыла, горькая головушка. Как же так?! И ведь взрослая, кажись, ученая по опыту…
«А все-таки, роднуша, погоди, – срываясь, прошептали ее губы. Для себя самой. – Дай-ка поточней в памяти проверю, ладно ли управилась? Уже коснулось старшенького: провожаю… Не кого-нибудь… Если что недогляжу – недогляда не прощу себе ни в жизнь, перемучаюсь потом…» – И по-новому, с отчаянной решимостью она попыталась все же протолкнуться в своей памяти, точно сквозь глухую напластованную толщу древних залежей каких-то с ответвлениями в них проложенных узеньких и низеньких переходов…
Между прочим Анна, хотя донельзя смятенная, своевременно, когда Силин завостребовал Валерия, про себя ж отметила и взвесила: уже солнце повернуло на весну – подогревало слышно, и настолько день подлинел, посветлел (под землей сидишь, будто крот, – ничего не видишь); тепло может быстро источить и половодьем распустить снежный покров – и, как ни крути, не обойтись Валере без хороших резиновых калош. Он без них наплачется. Вся обувка развалилась у него. И стало быть, они очень нужны к тем ношенным, зато прочным, подшитым настоящей, проваренной дратвой валенкам из двух пар, поднесенных на днях тетей Нюшей, крестной.
Тетя Нюша издавна подпирала семейство племянницы Анны; подпирала безотлагательной практической помощью, идущей от самого сердца и оказываемой, словно по какому-то очень чувствительному внутреннему барометру, особенно в бедственное для всех время. Тетя Нюша, как волшебная зеленая палочка-выручалочка, тихо, незаметно, даже стеснительно за то, что она делала, являлась каждый раз с скромным подношением, без всяких родственных наставлений кому-нибудь и со сдержанным проявлением любви, на которую, однако, можно было положиться полностью, и также тихо, неприметно уходила снова. Просто человеком. Кто бескорыстно, незаменимо служил живым звеном Анниного окружения.
Сейчас эти валенки дареные, пусть великоватые немного, чудно выручили Анну: они очень кстати подошли Валере – ему было, значит, в чем идти теперь. Только бы еще калоши раздобыть…
И уже без промедления заторопилась Анна, кое-как петляя в выбелено-пухлых сугробах, промеж внушительных колпаков немецких блиндажей, в безнадежно осевшую подслеповатую избу желтоватого скаредного Семена Голихина, не считавшегося прежде, до войны, при жизни стольких истинных, стоящих мужиков плоть от плоти, заправским мужиком в деревне, но нынче вполне считающимся таковым.
XI
В жизни все так обстоит: когда нету лучшего – благом почитается и что похуже. Нет, не в пример другим, Кашина не собирала, не копила на Семена особенно зла, помня все еще про то, что он, бывши некогда понятым, послушно, даже с ревностным тщанием обыскивал ее дом и двор, стоявшие еще целехонькими; но, по-честному признаться, она его недолюбливала уже век за что-то несовместимое по духу с тем, что должно бы быть, наверное, или, вернее, с тем, чего не должно бы вовсе быть, казалось ей определенно. Только если когда сталкивалась она с ним где-нибудь, смотрела на него, как на некое потустороннее явление, и все.
За Семеном прочно закрепилось прозвище «Сено-солома». С царской еще армии приклеилось. Там тогда узналось на учении, что он по всем статьям не гож; так, он ни за что не мог даже отличить, познать, где лево, а где право, и поэтому не знал, куда нужно под команду повернуть, с какой ноги шагнуть; командиры уже прибегали к помогающему средству – что к одной его ноге привязывали клочок сена, а к другой – клочок соломы, и, когда гоняли, обучая, новобранцев строем, – по-особому ему отдельно командовали: «Сено» и «Солома». Да впустую ж с ним возились отделенные и взводные. Распалялись: «У тебя, болван, наверняка башка одной соломою набита, если не соломенной трухой!» Так за непригодностью к несению военной службы и отчислили его, и он не служил в войсках нигде с тех пор. Значит, открутиться от повинности такой ему чисто удалось. Все навыворот. Кто как. Прешь ты, надрываясь, целый воз, и тебе еще, еще сверху накладывают, с лишком преизбыточным; авось, приятель, вытянешь, не свалишь, не откажешься и не переложишь на кого-то – тебе совесть не позволит, взмучает. А другой живет себе ни шатко и ни валко, в деле не развалится и ничем не утруждается; и его еще нет-нет похваливают все: молодцом живет – умнеющий мужик! Вишь, устроился завидно…
Однако Анна с просьбой теперь сунулась не к Голихину лично. У него в избе прижился этот чудной, сладивший печь Кашиным в землянке, беженец откуда-то, – Аким; он был одиночка, чумовой, шизофреник (мало ли, а может, и разыгрывал такого) да мастеровой на редкость; клеил он из автомобильных камер и отменно крепкие калоши – колхозники, гарантировавшие непроницаемость ног в оттепель и сырость, – они плотно, словно влито, обтягивали валенки и снизу, и с носков и к тому же имели достаточно высокие борта. А для этого Анна прихватила с собой кусок немецкой камеры, где-то высмотренной меньшим сыном, и уговорила Акима выклеить к утру калоши; загодя и рассчиталась с ним картофелинами и ржицей – чем могла – за просимую работу. Даже вроде и Семен уважил: как бы разрешил (он – хозяин дома) – не то ей, не то молчаливому квартиранту своему… И на том спасибо. Гора сразу спала с ее плеч.
А что касается пальто, то оно имелось у Валерия: его сшила Анна еще в захолодившем декабре, сшила из тех полубайковых одеял, которыми немецкие солдаты накрывали в стойлах лошадей и которые тайком ребята притащили из окопов (видно, задарма достались немцам). Сейчас она только пристегнула черной ниткой кой-где оторвавшуюся подкладку (свой девичий еще сарафан) и пуговицы. Сын носил большую отцовскую шапку-ушанку, с кроличьим повытершимся мехом, и белье отцовское, ушитое на скорую руку. А Наташа смастерила для него и рукавички – из старой, рваной шубейки – овчинные, что, стало быть, плохо: мокрая погода могла их испортить… Надо б шерстяные – ручной вязки, да не было шерсти и не было также времени, чтобы связать…
И после всего Анна еще долго пекла для него ржаные лепешки и варила еду.
До беспамятства раздумавшись обо всем, она даже не заметила, не уследила, что печь растопилась здорово, заполыхала, или ветер низовой заполыхивал в трубу, – ввалился в землянку патруль немецкий, невеликий дранненький солдатишко, костлявый, на лицо зеленый, строго вопросил: «Матка, почему огненные искры (Feier) из трубы там в воздух (Juft) сыплятся? Ты сигналишь русским самолетам, чтоб они бомбили нас? Сделали нам капут?!»
– Ну, надумал же какого лешего! Вот сообразил! – Анна, не выпуская из рук ухват на уже побуревшей, заполированной ладонями палке, только отклонилась на минутку от жаркой пасти печи – оглянулась на приползшего к ним в подземелье патрульного солдата, разогнула спину, как еще ей позволял потолок-настил. – Paзвe я способна быть отважной? Нет, камрад, я в героини не гожусь. Это очень страшно. Да и ведь-то не одна я, птица вольная: со мной дети безотлучно, не пускают никуда, руки не развяжешь – вон их сколько, маленьких, полюбуйся-ка, пожалуйста! – И убитым голосом, уже подвсхлипывая, доложилась ему до конца: – Вот еду готовлю сыну старшему к утру – завтра его забирает армия германская с собой, забирает от меня, от матери… Ох!
А Наташа то перевела доходчиво. Она за признанного переводчика домашнего была.
– Das ist gut, sehr gut! – завосторгался вдруг патруль пообстреливая всех глазами; просыпаясь в оживлении, сказал: – Да, по почему же матка плачет, фрау грустные? Warum? А сам потихоньку длинным прямым носом шмыгал, не удерживаясь, – все, видать, вынюхивал, чем тут пахло. Дескать, люди, очень хорошо все обстоит, и зачем же пускать слезы понапрасну? Он из этого не понимает ничего.
И, что поразительней всего, он что-то не спешил обратно выкатиться. Пока в тепле отогревался. Теплолюбивое животное. Как то знать, возможно, у него чувство вовсе не испуга – оттого, что в ночное небо искры сыпались из печки, всерьез было истинной причиной, по которой он с предупреждением в столь поздний час поспешил сюда, в землянку к русским, – он с заметной человечьей слабостью принюхивался, втягивая носом воздух, к запахам варимого съестного, доносившимся из печки, где стояли разогревшиеся чугунки, и один – с кониной.
– Нет, для нас все – очень плохо, плохо, – осадила его Анна, раздосадованная его неожиданным появлением и обычными речьми завоевателя. – Вы для Гитлера своего воюете, из кожи вон лезете… И если уж Гитлер ваш так хочет воевать, пускай себе и воюет, сколько хочет, сам, один, а других людей не трогает! Понятно вам?
– Ja, Ja… Ferschtein… – Почесал в затылке немец, понявший без перевода сказанное и как будто неожиданно по-новому; глаза остановил и, наверное, забыв про соблазнительные запахи, нагнулся перед выходом, чтобы вон полезть. Как еще полуобернулся медленно и, зыркнув вновь, приказал огонь, огонь поменьше сделать. Приглушить.
Анна дальше мало что соображала: собственная черепушка уже не варила. Кончено. А похоже, что солдатишко затем, понагнувшись резче, с удивительным проворством ухватил Наташу за ноги и потянул остервенело; он увидел с вожделением: валенки на них белели! И на ее вскрик Анна вмиг развернулась и слету так саданула кулаком мародера, что тот только брякнулся об пол, и об угол еще стукнулся, гремя мерзлыми, задубевшими сапогами и оружием, – и не сразу смог подняться на ноги; лишь глазами немо хлупал, все никак не мог прохлупаться. Ой, потеха ж! А когда очухался, – подобрался и живехонько убрался, как побитый пес, с непристойным для себя ворчанием, по-тихому. Без ужасного скандала.
Или то произошло еще в избе, еще стоявшей в целости, нетронутой фашистами, Анна в точности не помнила. Не помнила – и даже не пыталась сейчас вспомнить, где. Не суть важно это. Да ей и простительно: она убивалась по Валерию – лишь помнила о нем, пригожем голубке, своем детеныше. Шутка ли: она его теряла – в руки вражьи отдавала! Ее разум не мог с этим примириться.
Что же она чувствовала, что? Не передать того словами.
XII
В последние, наверное, недели три Анна видела: и он, голубок, по-отцовски целеустремленный, гордый и любованный прежде родительской любовью, как никто, но еще не оперенный, совсем незащищенный от напавших невиданных невзгод и уже уставший от всего – от бесчеловечной погоняловки врагом, от мыканья, от невообразимой тесноты, грязи, духоты и постоянного недоедания, – он, вероятно, изнутри предчувствовал еще горшие лишения и тяготы, надвигавшиеся на него ли, на семью ли. Все обваливалось. Потому творилось с ним неладное. И он незаслуженно причинил ей, матери, обидные душевные страдания, несмотря на все ее старания, попытки отвратить его малодушный срыв. Либо это еще при взрослении у него начиналась такая неизбежная ломка характера. Он стал неприятно раздражителен по любому поводу и без повода и даже неуживчив – до запальчивости – в разговоре с близкими, с кем жил, теснился здесь, в землянке; дерзостно он сразу кучу колкостей наговорил безобидной тете Дуне, лишь и она тоже заметила ему, увещевая, что это опасно: поперек убийственно крутых приказов оккупантов, он завел себе карманные немецкие армейские фонарики и даже выставлялся с ними где попало – и тем самым мог часом только погубить себя, семью, потому как немцы, знай, не помилуют, по головке не погладят за такие вольности.
Валерий объявил ей, что он не желает, чтоб она с сынишкой Славиком объедала их семейство и еще чтоб полноправно в чем-нибудь жучила его, Валерия, и вякала, что годится или не годится ему делать, – он уже не маленький и вполне сам отвечает за себя. Причем Валерий судил категорично, наотрез, выступая уже почти как законный преемник отца и поэтому, считая, видно, что все остальные члены семьи должны просто подчиниться ему, и только. Расступиться перед ним. За ним это слово. И так он устал сильно. А ведь лишний рот – лишние заботы. Чтобы как-то пропитаться, нужно в поте промышлять еду, везде побегать и поползать; нужно чаше также и молоть какое-то зерно, а больше сушеные картофельные очистки – на шаркающем чугунке (самодельной мельнице, представлявшей, собой два кряжа – один, со сквозным отверстием, лункой, на другом – с наколоченными ребрами в их торцах по радиусу мелким, что квадратные монетки, чугуном от разбитого для этой цели расколовшегося чугунка).
Что за небывальщина? Какой-то дикий, дикий бред! Можно лишь руками развести… Да откуда же взялось все вдруг? От жестокости завоевателей?.. Да, отсюда кровь, ущерб, такой разлад во всем…
И случившееся всех в семье обескуражило и опечалило.
Ведь до этого Анна детей своих учила уважению, беззлобию, доброжелательству к другим и вовсе не делила их, подобно иным матерям, на любимых, не любимых; теми же, считай, неисправимыми детьми еще жили в ее сердце также и ее родные младшие сестрички, кого она еще до своего замужества, считай, сумела вынянчить и воспитать, поднять на ноги. Потому-то сестры чтили ее по-любовному, слушались ее и берегли, а она за них волновалась по-былому; потому-то, стало быть, и существовали между ними ясные, доверительно бережные отношения. Вот такими, с этими неистребимыми задатками в себе, они уж выросли. И делам друг друга очень радовались. Каждому какому-то успеху. И как раз напротив, чем трудней им в жизни приходилось – порознь ли, вместе ли, тем определенней Анна уверялась с радостью в исключительной целесообразности того, что некорыстно жило, держалось в их роду, благодаря чему-то, – что она и Дуняша, третья ее сестра, снова были вместе, воедино сведены обе их семьи – вместе-то им было вдвойне крепче, легче, легче все перенести, одолеть и вытерпеть. Особенно – для одинокой, нежно-боязливой Дуняшки, не дождавшейся возвращения со службы сметливо-веселого и широко открытого перед всеми мужа Станислава.
Анна беспокоилась за вторую сестру Машу – та прибилась к мужниным старикам, жившим на хуторе, под Знаменском, на Волге. А первая ее сестра Зоя с сыном-подростком Володей загодя эвакуировалась из Ржева на Урал: там-то была у своих, в неприкосновенности от врага, и за нее теперь душа у Анны болела меньше.
Валерий злоязычной выходкой своей обидел прежде всего мать, – она ли, Анна: ни закладывала также в нем взыскательно, ревниво семена тех положительных эмоций, качеств, увидать которые еще надеялась впоследствии. Здесь он никакой такой судья, указчик; что ему, глупцу, еще сопленышу, судить-то несудимое? Разве ж Дуня виновата перед кем-то в том, что сталось и что ей, одиночке, оказавшейся во вражеском окружении, среди городских руин, без средств к существованию, – ей пришлось приклониться к поставленному плечу родному?.. Слава богу, что вышло именно так.
И как же, однако, хорошо получилось вот этим вечером то, что Валерий нечаянно – под влиянием ли близкого расставания со всеми или тихих, ласковых материнских бесед с ним – смягчился: чистосердечно, со слезами на глазах, и, дрожа, как серенький кролик, просил тетю Дуню простить его и не помнить зла на него – он раскаялся в своем дурацком поведении, признал, что был неправ.
Ой, возликовала вновь душа у Анны, прыгая на радостях; возликовала она оттого, что все по-доброму в конце-концов сладилось с сыном, что добро все-таки взяло свое, что он простился по-хорошему, сердцем отойдя, просветленный, и что, значит, вовсе не напрасно мать, любя, и взыскивала, когда нужно, с них, сорванцов, – они были все же понимающие, чувствующие у нее, не дубовые…
XIII
Когда ранним утром следующего дня, еще затемно, юркий сухозадый мужичонка, староста Вьюнок, старавшийся быть сговорчивым, покладистым, немцы и кормленые полицаи с холодными, надменными физиономиями обошли землянки да избы деревенские и, проверив, согнали взрослых и молодежь от четырнадцати лет в центр деревни, к комендатуре, когда затем гитлеровцы деловито выстроили всех там, на расчищенной от снега улице, как и каждый божий день – при обнаряживании отработкой задарма на великую армию немецкую, и когда начали они отдельно отбирать мужчин, парней, но не трогая покамест женщин, девушек, и тут, вытолкнув, отделили от взбудораженной толпы также и Валерия, вслед за семнадцатилетним Толиком, сыном Поли, Полюшки, когда невзрачно-щуплый немецкий комендантишко стеклянным взглядом проблестел по лицам отобранных и по-птичьи объявил им, что они теперь позарез нужны великой Германии, когда к тем приставили конвой и погнали их в никуда и когда округу огласил сильней взметнувшийся бабий плач и стон, и крики – когда это все случилось, тогда все для Анны как бы стойким туманом застлало и почти уж ничего она не видела перед собой. Лишь светились среди печально остуженных ребячьих лиц бесконечно милые черты родного бледного лица да невыразимо грустные, кричащие глаза Валерия, и все. Глаза его кричали ей: «Что же, мама, ты бездействуешь?! Спаси!..»